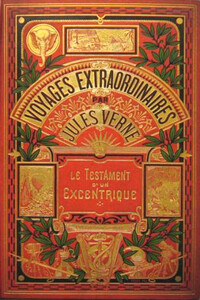Голландец не мог более отступать от обещаний, данных Бруно, и наконец осмелился на дипломатическую беседу, соблюдая при этом всю возможную осторожность. Угроза плохой погоды показалась ему прекрасным вступлением к разговору.
— Друг Керабан, — сказал он сначала тоном человека, который не то чтобы хочет дать совет, а скорее просит его, — что вы думаете о состоянии атмосферы?
— Что я думаю?
— Да! Вы знаете, мы приближаемся к осеннему равноденствию, и следует опасаться, что наше путешествие не будет столь благополучным во второй части, как было в первой.
— Ну, мы будем в менее благоприятных обстоятельствах, вот и все, — заметил Керабан сухим тоном. — У меня нет власти менять по своему желанию атмосферные условия. Я не повелеваю стихиями, насколько мне известно, ван Миттен.
— Да… очевидно, — ответил голландец, которого такое начало не обнадеживало. — Но я не об этом говорю, мой достойный друг.
— Что же вы тогда хотите сказать?
— Что, может быть, грозы и не будет или она пройдет…
— Все грозы проходят, ван Миттен. Они продолжаются более или менее долго… как и споры, но они проходят. И за ними, естественно, следует хорошая погода.
— По крайней мере, — заметил ван Миттен, — если атмосфера не слишком сильно потревожена… и не период равноденствия…
— Когда человек попадает в такие условия, то с этим нужно смириться. Я не могу сделать так, чтобы мы были не в равноденствии! Можно подумать, ван Миттен, что вы упрекаете меня в этом?
— Нет! Уверяю вас… Упрекать вас… мне, друг Керабан! — пролепетал ван Миттен.
Было слишком очевидно, что дело оборачивается плохо. Если бы позади него не сидел Бруно, чье глухое подстрекательство он ощущал, то ван Миттен оставил бы этот опасный разговор до лучших времен. Но пути к отступлению не было, тем более что Керабан на этот раз прямо спросил его, нахмурив брови:
— Что с вами, ван Миттен? Можно подумать, что у вас есть какая-то задняя мысль?
— У меня?
— Да, у вас! Посмотрим. Объяснитесь откровенно! Мне не нравятся люди, которые строят вам кислую мину, не говоря почему.
— Я? Строю кислую мину?
— Можете вы меня в чем-нибудь упрекнуть! Пригласив вас пообедать в Скутари, разве я не везу вас туда? Разве моя вина, что карета разбилась на этой проклятой железной дороге?
— О да! Это была его, и только его, вина! Но голландец воздержался от того, чтобы упрекать торговца за это.
— И моя ли вина, что нам угрожает плохая погода, когда у нас только арба для передвижения? Посмотрим. Говорите!
Взволнованный ван Миттен уже не знал, что отвечать. Он ограничился поэтому лишь тем, что спросил у своего малотерпеливого спутника, не собирается ли он остаться в Атине или даже в Трапезунде в случае, если плохая погода сделает путешествие слишком трудным.
— Трудным не значит невозможным, не так ли? — сказал Керабан. И поскольку я намерен прибыть в Скутари к концу месяца, то мы продолжим путь, даже если все стихии вступят в заговор против нас!
Тогда ван Миттен призвал себе на помощь все мужество и не без явного колебания в голосе сформулировал известное предложение.
— Хорошо, друг Керабан, — сказал он, — если это вас не слишком стеснит, то я попрошу у вас для Бруно и для себя разрешения… да… разрешения остаться в Атине.
— Вы просите у меня разрешения остаться в Атине?.. — удивился Керабан, скандируя каждый слог.
— Да… разрешения… дозволения… поскольку я ничего не хотел бы сделать без вашего признания… чтобы…
— Чтобы нам разделиться, не так ли?
— О! Временно! Лишь временно! — поспешил прибавить ван Миттен. — Мы очень устали, Бруно и я. Мы предпочли бы вернуться в Константинополь морем… да!.. морем…
— Морем?
— Да… дорогой Керабан… О! Я знаю, что вы не любите моря! И не говорю об этом, чтобы не стеснить своего друга. Очень хорошо понимаю: плыть по морю было бы для вас неприятно… Поэтому я нахожу вполне естественным, что вы продолжите следовать по прибрежной дороге! Но усталость начинает делать для меня это передвижение слишком тягостным… и… если хорошенько посмотреть, Бруно худеет!
— А! Бруно худеет! — ухмыльнулся Керабан, даже не оборачиваясь к злосчастному слуге, который неверной рукой лихорадочно показывал на одежду, болтающуюся на его исхудалом теле.