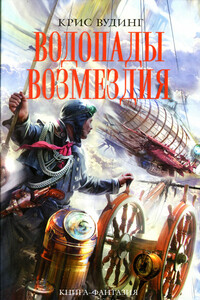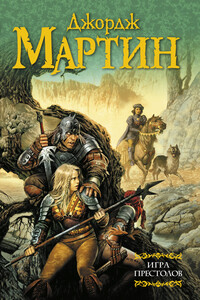Джеку слезы обожгли глаза. Он привалился к стене. Здесь не работало то объяснение, которое он использовал в разговоре с Хирамом. Герштейн там был. Он не сломался – и именно за это его отправили в тюрьму.
А то, что произошло с Блайз, было гораздо хуже. Казалось, Герштейн подслушал эту мысль.
– Как только я вышел из тюрьмы, я навестил Блайз. В ноябре пятьдесят третьего. Я уговорил санитаров меня пропустить. Я даже прошел в ее камеру. Я сказал ей, что все будет хорошо. Я сказал ей, что она здорова. Это была неправда. Через три недели она умерла.
– Мне очень жаль, – сказал Джек.
– Жаль! – Казалось, Герштейн пробует это слово на вкус, катая по языку. – Так легко говорится – и так мало меняет. Мы можем «трудиться, чтоб в веках свой оставить след на диких, зыбких времени песках»[5]. Он встретился взглядом с Джеком. – Подул ветер, Джек, и развеял наши следы. – Он устремил на Джека долгий пристальный взгляд, из которого исчезли все эмоции. – Оставь меня в покое, Джек. Я не хочу больше с тобой встречаться.
Дэвид Герштейн повернулся и ушел. Джек медленно сполз по стене. Его тело сотрясалось от ужаса и раскаяния. Ему понадобилось не меньше пяти минут, чтобы взять себя в руки. Когда он выпрямился, у него на рубашке оказались громадные пятна пота.
Делегаты, проходившие по переходу, смотрели на него с жалостью или отвращением, решив, что он пьян. Они ошибались. Он был трезв – абсолютно трезв. Он был так перепуган, что это выжгло из него все следы алкоголя.
Джек вошел в зал как раз в ту минуту, когда Джим Райт объявил последний подсчет голосов. Результат Хартманна был ниже плинтуса.
19.00
Коридоры отеля были пусты. Большинство присутствовало на главном событии в зале съезда. Спектор вошел в кафетерий с бутылкой виски под мышкой. Он проспал почти весь день, и теперь ему необходимо было поесть. Рестораны «Мариотта» не обсуждались: после драки с Золотым Мальчиком его наверняка искали. Однако он ослабел от голода – и с этим надо было что-то делать.
Он прошел по стойкам со всякими перекусами и сувенирами, выбрав пару шоколадных батончиков, банку кешью и несколько колбасок к пиву. Молодой негр стоял за кассой, устремив взгляд на черно-белый экран маленького телевизора. Спектор вывалил свои покупки на прилавок и достал купюру.
– Сейчас, мистер, – сказал продавец. – После рекламы обещали показать, как у Тахиона взрывается рука. В прямом эфире я это пропустил. Черт, вот ведь была картинка! А вы видели?
– У Тахиона взорвалась рука? О чем ты, к дьяволу?
– Вы что, целый день в бассейне просидели? – продавец изумленно покачал головой. – Какой-то маленький уродец пожал доктору руку – и начисто ее отчекрыжил. Говорят… Минуточку! Вот оно!
Он развернул телевизор так, чтобы Спектору тоже было видно.
Видео показывали в замедлении. Тахион обрабатывал толпу, пожимая руки.
– И кто его? – спросил Спектор.
– Какой-то маленький горбун. Видите: вот он.
Спектор открыл рот. Беззвучно закрыл его. Это оказался тот самый щуплый хам, который летел с ним одним рейсом. Горбун отхватил Тахиону кисть, и кровь брызнула во все стороны. Оператора толкнула рванувшаяся в панике толпа, и на этом видеосъемка закончилось.
– Он еще жив?
Спектор давно мечтал, чтобы Тахион помер, однако внезапно обнаружил, что надеется на лучшее. В конце концов, ведь он собирался сам когда-нибудь убить Тахиона… попозже.
– Пока – да. – Кассир выключил телевизор и выбил Спектору чек. – Наверное, он крепче, чем кажется на первый взгляд. – Он сложил покупки Спектора в пакет и вручил его вместе со сдачей. – Дьяволу руку жать не след, мистер.
Спектор с улыбкой подумал, что этот совет немного запоздал. Отправив сдачу в карман, он направился обратно в номер.
– Эй, Джек!
– Ну, что еще?
– Приказ от Девона.
– Угу, – без всякого энтузиазма откликнулся Джек.
Он прятался от репортеров среди своих сохранивших верность делегатов. Изменники – почти треть от общего числа – отправились совещаться со своими новыми руководителями.
– После перерыва, – сообщил Родригес, – лагерь Джексона потребует приостановить действие правил съезда, чтобы Джесси мог выступить. Нам полагается голосовать «за».