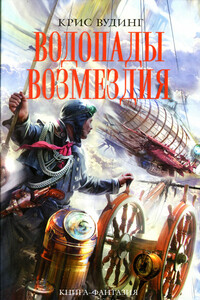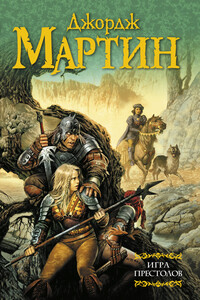– Ты только что его пропустил, – сказал он.
Конналли пожал плечами.
– Ну и что?
– Он даже не делегат! А я – делегат!
Конналли посмотрел на него.
– Он не ж… А ты – ж…а.
Глядя сквозь стеклянную дверь, Джек увидел, как седовласый оглянулся – бросил беглый взгляд через плечо, подняв руку, чтобы дружески помахать Конналли. При виде Джека бородатое лицо мужчины окаменело. Он уронил руку и пошел дальше.
Джек насторожился. Он недавно видел это лицо на обложке журнала «Тайм», после того как актер по имени Джош Дэвидсон сыграл короля Лира в театре на открытом воздухе в Центральном парке.
И, что гораздо важнее, он уже видел такое выражение лица.
Он вспомнил, как несколько докеров плясали на столе и пели «Ром и Кока-кола».
«Извини, Шила, – вспомнил он слова очкастого, – твой старик – просто прелесть».
Джек подумал снова, что узнал взгляд Дэвидсона. Он уже один раз его видел, в пятидесятом, когда вышел из зала заседаний комитета, где давал показания перед КРААД, и прошел мимо ожидающих допроса Эрла, Дэвида, Блайз и мистера Холмса – прошел мимо, не сказав ни слова. Внезапно Джек бросился бежать: мимо изумленного Конналли к одной из дверей, которой сможет воспользоваться.
Джек понял, что Джош Дэвидсон – тайный туз.
На бегу у Джека из кармана выскользнула фляжка, разлетевшаяся на бетоне мелкими осколками. Он не снизил скорости.
Общественность считала, что из Четырех Тузов в живых остался один только Джек. Однако никто не мог утверждать этого с уверенностью, поскольку еще один из той четверки исчез.
Отсидев три года на острове Алкатрас за неуважение к конгрессу, Дэвид Герштейн вышел в 1953-м. Год спустя конгресс принял Акт о специальном призыве, и Герштейн получил повестку. На призывный пункт он не явился. С тех пор его больше не видели. Ходили слухи о том, что он умер, был зверски убит, сбежал в Москву, изменил имя и переехал в Израиль…
Не было ни единого упоминания о том, что он сделал косметическую операцию, немного накачал мышцы, прибавил в весе, отрастил бороду, поставил голос и стал актером на Бродвее.
«Твой старик – просто прелесть». Естественно. Стоит начать действовать феромонам – и к Дэвиду Герштейну невозможно питать антипатию. С ним невозможно не согласиться. Никто не в состоянии не сделать того, чего он от них хочет.
Джек помахал своим пропуском перед человеком, дежурившим у двери, и ворвался в центр. Он пробежал через довольно плотную толпу в ту сторону, куда направился Дэвидсон, не обращая внимания на изумленные взгляды делегатов съезда. Благодаря своему росту он увидел, что Дэвидсон идет к подземному переходу, ведущему к залу. Он двинулся следом, поймал Дэвидсона за руку и сказал:
– Эй!
Дэвидсон развернулся и сбросил руку Джека. Его глаза напоминали осколки обсидиана.
– Я бы предпочел с вами не разговаривать, мистер Браун.
Джек начал было пятиться, чувствуя, как вся кровь отливает от его лица. Однако он овладел собой и снова шагнул вперед.
– Я хочу с тобой поговорить, Герштейн, – сказал он. – Мы ведь не общались почти сорок лет.
Герштейн отшатнулся и схватился за сердце. Джека охватил ужас: неужели он устроил старику инфаркт? Он поднял руки, собираясь не дать Герштейну упасть, однако тот холодно оттолкнул руки Джека и потом полуотвернулся и привалился к стене.
– «Если теперь, – пробормотал он, – так, значит, не потом. Если не потом, так, значит, теперь; если не теперь, то все равно когда-нибудь».
– «Готовность – это все»[4], – сказал Джек, завершая цитату.
В школе он играл Лаэрта.
Герштейн пристально посмотрел на Джека.
– Столько лет – и меня обнаружил именно ты! В этом есть нечто правильное.
– Как скажешь.
– А почему мы вообще разговариваем? Если ты не собираешься меня разоблачить.
Джек протяжно вздохнул.
– Я никого не разоблачаю, Дэвид, – сказал он.
Лицо актера выражало презрения:
– Интересный поступок вне характера.
– А ты специалист по характерам.
– А еще я специалист по тюрьме. Отсидел там три года.
– Это не я отправил тебя в тюрьму, Дэвид, – возразил Джек. – Тебя увезли еще до того, как я начал давать показания.
– Еще одно интересное уточнение. – Дэвидсон пожал плечами. – Однако если это успокаивает твою совесть…