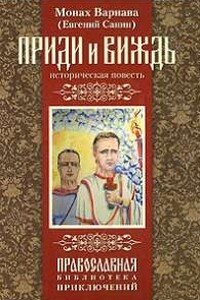Он не удержал насмешливой улыбки.
— Что же ты нашла в этом хорошего? — строго спросила Прасковья Александровна. Она была довольно полная, сохраняя при этом стройность, с пышной причёской из каштановых волос и двигалась быстро, легко.
— Но они любят друг друга.
— Ведь они любят друг друга! — подхватила пятнадцатилетняя Зизи.
— А отца с матерью не любит и не уважает?
— А я сам бы помог этому молодцу штабс-ротмистру! — воскликнул Лёвушка.
Красивая Алина Осипова молчала, сдержанная и сосредоточенная. Но взгляды, которые она иногда бросала на сводного брата, не оставляли никаких сомнений.
Алексей Вульф в небрежной позе расположился на обитом штофом диване. Пушкин подсел к нему.
— Наша студенческая жизнь, — начал рассказывать дерптский студент, — ни дня без дуэли. На саблях или пистолетах — и по любому ничтожному поводу. Просто это неистребимый дух рыцарства. В этом потребность. Двое дерутся, а пятьдесят смотрят. А потом примирение к конечно же пьяное застолье...
— У меня так есть серьёзная причина для дуэли, — произнёс Пушкин. — И дуэль неизбежна. — Он принялся рассказывать об оскорблении, которое ему нанёс Толстой-Американец[64]. Клевета, которая, можно сказать, едва не погубила его. — Каждый день в Кишинёве и Одессе я упражнял руку тяжёлой палкой — чтобы не дрожала. У вас не найдётся?
— Как же, — ответил Вульф, — пойдёмте.
Прошли в его кабинет с письменным и ломберным столами, этажеркой для книг и скрещёнными саблями по ковру на стене. Из угла Вульф извлёк железную, с Т-образной ручкой, с четырёхгранным остриём палку. Пушкин поднял её на ладони — не менее девяти фунтов.
— То, что мне нужно!
Пушкин задержался в библиотеке. Это была узкая комната со шкафами чёрного дерева «под орех», с круглым столом на массивной ноге и диваном с пёстрой обивкой. На стенах висели картины фламандской школы.
Он открыл полузастеклённые дверцы. Какая мешанина и какое богатство! Здесь были книги и журналы, собранные ещё стариком Вындомским, — «Трутень» Новикова и «Всякая всячина» Екатерины II, творения Ломоносова, Тредьяковского, Сумарокова и Державина[65] — и книга, приобретённые его дочерью, с подписями, в которых отразился пройденный ею жизненный путь: «Prascovie de Windomsky», «Prascovie Woulff», «Prascovie d’Ossipoff»[66]; учебники физики, географии, арифметики, по которым обучались Аннет и Знзи, и читаные-перечитаные знаменитые романы Ричардсона[67] о Грандисоне и Клариссе Гарлоу; Расин, Корнель, Шекспир, Гёте[68]; домашние лечебники, месяцесловы, календари в сафьяновых переплётах; «Российский Феатр» и «Деяния Петра», творение хозяина «Записка, каким образом сделать из простого горячего вина самую лучшую французскую водку».
Пушкин тотчас отобрал несколько книг и, неся их под мышкой, вернулся в гостиную.
Сразу же послышалось:
— Прочтите, прочтите!
Вот уж чего он не любил!
— Хочешь, я за тебя прочту... ну то... начало... «Цыган», — предложил Лёвушка.
Вот память! Лёвушка с раскрасневшимся лицом и живо поблескивающими глазами стоял подле Алины Осиповой. Она смотрела не на него, а на Алексея Вульфа, сидевшего в небрежной позе, закинув ногу на ногу, на диване.
— Я прочту, — сказал Пушкин, — если мадемуазель Алина сыграет нам.
Красивое лицо девушки оставалось строгим, лишь тонкие брови дрогнули в изломе. Она подошла к фортепьяно, подняла крышку и села на круглую табуретку, так что платье складками стекло по стройным ногам к педалям.
Бравурные звуки сразу заполнили дом, и вдруг стихли, превратившись в грустную жалобу, и снова вознеслись, закружились, призывая и увлекая... Как она играла! И превосходный этот талант, никем по достоинству не оценённый, должен был заглохнуть в деревне...
Алина встала из-за инструмента и взглянула на Пушкина каким-то новым, победоносным и светящимся взглядом.
— Теперь ваш черёд, — сказала она. В тембре её голоса тоже была музыка. Честное слово, он готов был влюбиться!
— Что ж... — И Пушкин вышел на середину комнаты. — Ещё не совсем закончил... перевод из Парни... вольный перевод... — И прочитал «Прозерпину».