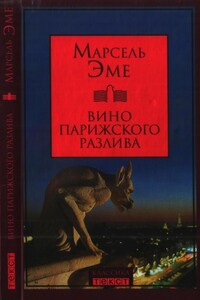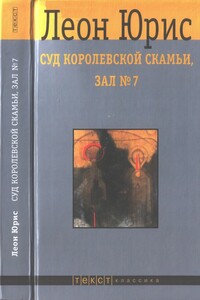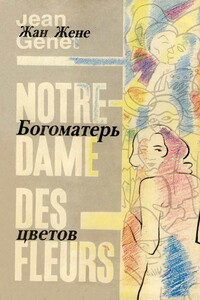— Теперь можешь и поговорить. Давай. Тебе повезло, что у меня не хватило смелости размозжить твою противную сельдяную харю.
Еще секунду он смотрел на меня, потом отвел глаза.
— Убирайся.
Он еще раз взглянул на меня и ушел. Я вернулся домой, держа револьвер в опушенной руке. На следующее утро, очень рано, он постучался в мою дверь. Воспользовался оцепенением, в котором я пребываю, пока хорошенько не проснусь, чтобы добиться примирения, которого желал и я.
— Не стоит ко всему относиться так серьезно, — сказал он тогда.
……….
Запыхавшись, лошадь в дрогах стала, поскольку дорога пошла в гору, прорезая сосновый лесок. Эта интимная близость смерти и природы была самим благородством. Служанка, полуживая от усталости, нагнала кортеж, но едва она оказалась под соснами, опьяненная запахом смолы и жизни, как похоронная машинерия снова пришла в движение. А через сотню метров копыта уже застучали по королевской дороге. Они пересекали предместье. Служанка подняла глаза. Она сначала приметила жандармерию, которая всегда располагается на въезде в деревню. Жандармы дремали. Их униформы висели на спинках железных коек, пялясь пятнами пыли, или лежали, сваленные на стульях поверх пустых башмаков. Мускулистые тела были голы и невинно лежали, влажные от летней жары. На них садились черные мухи. Жандармы спали без сновидений. Рейды по полям в погоне за мародерами выматывали их. Но один из них, в расхристанном мундире, расстегнутой рубахе и с приспущенным ремнем сидел у окна и, возможно, видел служаночку, но все равно не распознал бы самого хитрого из бродяг под личиной этого странного траура. Чуть дальше стояла тюрьма. Фасад за обводной стеной прорезали семнадцать окошек, из одного свешивалась просунутая сквозь прутья огромная, бездвижная рука несчастного сидельца. Она застыла в прощальном жесте. Наконец добрались до самого предместья. Все окошки были украшены трехцветными флагами, полоскавшимися под солнцем. Железные балкончики по тогдашней моде были убраны коврами, материей, гирляндами и монограммами из плюща. Весь город высыпал к окнам, чтобы поглазеть на королевское шествие. Размахивали руками, хлопали, смеялись, завывали от счастья. Служанка так разомлела, что чувствовала себя маленьким камешком, годным разве что послужить упором под колесом катафалка. Она не чувствовала под собой ног, как солдат после марш-броска, но крепилась, на каждом шагу поддерживаемая звуками национального гимна, который для нее одной превращался в победный марш.
Этот день будет долгим. Вероятно, солнце заходило и всходило несколько раз. Но своего рода неподвижность, особенно во взглядах, заставляла людей, животных, растения, вещи бодрствовать без перерыва. Каждый предмет хранил в себе неподвижное время, из которого изгнали сон. Тот день удлинялся не потому, что его растянули за рамки двадцати четырех часов, — он цепко впивался в каждую секунду, и всякая вещь наблюдала вялую поступь времени с такой пристальностью, что чувствовалось: ничего произойти не может. Особенно стерегли время деревья, их неподвижность бесила. Так день похорон Жана обрел свою собственную живую душу. Его одушевленность, как мне кажется, была помечена содержанием смерти Жана, вернее, содержанием самого мертвого Жана, обернутого в пелены, драгоценного плодотворящего средоточия, нежного и плотного ядра, на которое навертывался день, вырабатывая нить, свивая кокон, где обитала смерть, именно вокруг него жизнь со всеми ее фигурантами — и непременно, в исключительном качестве, со мною среди прочих — сворачивалась и разворачивалась по спирали, перла во все стороны. С той минуты, как я увидел Жана выставленным в гробу (четыре часа пополудни), вплоть до полуночи двое суток спустя этот день, странный своим положением во времени и устрашающий из-за присутствия в нем, в его сердцевине — трупа, который в конце концов заполнил его целиком, поскольку был его сущностью, мучительной и затрудняющей дыхание, ибо его длительность казалась мне состоящей их моего братского влечения к Жану, открывшегося мне самому благодаря шоку от его смерти, — этот день не мог прийти к концу, несмотря на два вечера, два почивших солнца, два-три завтрака и обеда, только после которых я смог заснуть. По пробуждении я испытал чуть меньший ужас, но в течение сорока часов я жил, я нырнул в живой день, чья жизнь струилась, как заря над младенческими яслями, питаясь от светящегося трупа двадцатилетнего ребенка, мерцая между пеленками и ленточками колыбельки, как некое вещество, цветом и консистенцией напоминающее миндальное молочко. И вот такой день идет к концу. Каждый предмет, не утратив к нему внимания, хочет отметить его зарубкой на память. Все бодрствуем. Бокал, куда полковница клала свои зубы, требует от своего хрусталя сохранять как можно большую собранность. Он прислушивается. Запоминает. Деревья могут шевелиться, потряхивать перышками на всех ветрах и ветрищах. Они могут стонать, драться, петь, эта их подвижность обманчива: они шпионят. Особенно меня тревожит одно из них. Что до действующих лиц, они отравлены. Все мои страницы будут смертельно бледными, потому что вместо крови в них течет лунный свет.