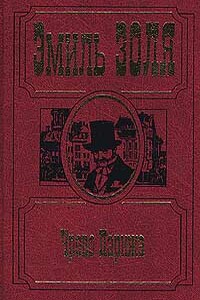В ту ночь Кабюш, как это не раз бывало и прежде, перелез через живую изгородь и бродил под окнами Северины. Ему было известно, что она ждет приезда Рубо, и поэтому он не удивился, что сквозь щель в ставне просачивается свет.
Но внезапно он замер от неожиданности: с крыльца кубарем скатился какой-то человек и, как стрела, исчез во тьме.
О погоне за таинственным беглецом не могло быть и речи; каменолом, испуганный и встревоженный, нерешительно топтался перед распахнутой настежь дверью, которая зияла, точно черная пасть. Что произошло? Не войти ли ему? В доме стояла гнетущая тишина, оттуда не доносилось ни малейшего шороха — только на втором этаже виднелось яркое пятно горящей лампы, — и сердце Кабюша сжалось от предчувствия беды.
Наконец он решился и начал ощупью подниматься наверх. Перед открытой дверью спальни опять остановился. Лампа горела ровным светом, и издали ему померещилось, будто возле кровати, прямо на полу, лежит целая груда дамских юбок. Должно быть, Северина разделась и легла. Кабюша охватило глубокое смятение, кровь бешено застучала в висках, и, понизив голос, он робко окликнул ее по имени. И тут только он заметил кровь, все понял и с диким, душераздирающим воплем кинулся в комнату. Господи! В каком она виде: зарезана и безжалостно брошена здесь в одной сорочке! Ему почудилось, будто несчастная еще хрипит, Кабюш пришел в такое отчаяние, его охватил такой болезненный стыд оттого, что она умирает на его глазах совершенно раздетая, что он, повинуясь неодолимому порыву, как брат, поднял ее на руки, перенес на постель и прикрыл простынею. Разжав объятия — он в первый и последний раз обнимал Северину, — Кабюш обнаружил, что его руки и грудь в крови, в ее крови! И в то же мгновение он заметил Рубо и Мизара. Увидев, что все двери широко распахнуты, они также решили войти. Муж задержался потому, что остановился поболтать с путевым сторожем, и тот, не желая прерывать беседу, проводил его затем до самого дома. Оба оторопело уставились на каменолома, у которого руки были забрызганы кровью, как у мясника.
— Точно таким ударом прикончили председателя суда Гранморена, — пробормотал наконец Мизар, оглядев рану на шее убитой.
Рубо ничего не ответил и только кивнул, он не в силах был отвести взор от Северины — на ее лице лежала печать невыразимого ужаса, черные волосы встали дыбом, а в неестественно расширенных голубых глазах навеки застыл вопрос: «За что?»
XII
Три месяца спустя, теплой июньской ночью, Жак вел в Гавр курьерский поезд, вышедший из Парижа в шесть тридцать вечера. Его теперешняя машина — новехонький паровоз номер 608 — досталась ему, как он выражался, девушкой, и он начинал уже понемногу к ней привыкать: она была не слишком покладиста, напротив — порывиста и капризна, как те молодые кобылицы, которых приходится долго объезжать, прежде чем они научатся ходить в упряжке. И Жак часто бранил ее, с грустью вспоминая при этом о «Лизон»; да, за этой машиной надо следить в оба, тут ни на миг не снимешь руку с маховика, регулирующего изменение хода! Однако ночь была такая теплая и чудесная, что Жак невольно смягчился и не мешал машине порывисто мчаться вперед, довольный тем, что может дышать полной грудью. Никогда еще он не чувствовал себя так хорошо, он не испытывал ни малейших угрызений совести, на душе у него было легко, и ничто не омрачало его безоблачного настроения.
Жак, как правило, никогда не разговаривал в пути, но в тот вечер он то и дело подшучивал над своим кочегаром — все тем же Пеке.
— Что это? Вы нынче, видать, кроме воды, ничего в рот не брали: вас что-то даже ко сну не клонит?
Пеке и вправду, против обыкновения, был трезв и необыкновенно мрачен. Он угрюмо буркнул в ответ:
— Кто хочет видеть, тому не до сна!
Машинист бросил на него настороженный взгляд, как человек, у которого не совсем чиста совесть. Дело в том, что на прошлой неделе Жак согрешил с подружкой кочегара, неуемной Филоменой, которая давно уже терлась возле него, как влюбленная кошка. Он не просто уступил мимолетному желанию, он хотел прежде всего произвести опыт и понять, окончательно ли он исцелился теперь, когда удовлетворил наконец свою чудовищную потребность. Сможет ли он обладать женщиной, не вонзив ей при этом нож в горло? Они были близки уже дважды, и Жак ни разу не заметил каких бы то ни было тревожных симптомов — ни внезапной дурноты, ни роковой дрожи. Его отличное расположение духа, довольный, смеющийся вид и объяснялись, хотя он этого сам не подозревал, радостным ощущением, что отныне он такой же человек, как все другие.