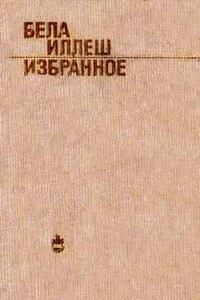— Ну, кто же говорит такие идиотские вещи? Никто.
— Что же, ты полагаешь, из пальца, что ли, я это высосал? Находятся сопляки, которые только тем и заняты, что позорят память диктатуры. И — чтобы ты знал — идет это из наших же собственных рядов. Каждого, кто смеет защищать традиции нашей революции, клеймят авантюристом. Начинают с прошлого, кончают будущим. Я полагаю, тебе теперь все ясно.
— Ты сознательно сгущаешь краски, Иошка. Критиковать ошибки революции — это не грех. По-моему, это даже наш долг.
Секереш внимательно посмотрел на Петра.
— Тяжелые дни ожидают тебя, брат, — сказал он тихо.
Бесконечно долго тянулось время. Наконец появился Тереш, сунул ему кусок колбасы с хлебом, несколько газет и тотчас же скрылся, притворив за собой дверь.
Петр при свете свечи прочел отчеты о будапештском сражении. Ядро королевских войск составлял отряд Остенбурга, столь прогремевшего по всей стране в первые месяцы белого террора. При столкновении с вооруженным противником отряд этот оказался настолько же трусливым, насколько бесстрашным показал он себя в борьбе с безоружными и закованными в кандалы рабочими. А между тем и противники его были не бог весть какие вояки: вооруженные на скорую руку студенты университета, офицеры «конкурирующих» отрядов. Остенбуржцы рассчитывали, очевидно, больше на обаяние личности короля, чем на силу своего оружия. И когда оказалось, что появление короля не произвело ожидаемого чуда, они дали тягу. Победители долго не смели верить в свою победу. У них духу не хватило преследовать беглецов. Дело ограничилось тем, что они издали обстреляли королевский поезд.
В соседней комнате послышались голоса. Два мужских, один женский. Говорили так громко, что Петр мог разобрать отдельные слова: расценка, сдельная работа, зарплата, зарплата, зарплата…
В комнату вошел Тереш. Вынул какие-то бумаги из шкафа и вышел, оставив за собой дверь открытой. На одно мгновение Петр мог видеть круглоголового мужчину лет сорока, с черными усами. Он сидел у стола, согнувшись над листом бумаги. Помусолив карандаш, он что-то написал в углу листа. Высокая, молодая, сильная женщина через его голову рассматривала документ. Она положила руку на плечо товарища. И эта широкая, с короткими пальцами рука была твердой, как железо, над которым она работала.
Когда к ужину явился Секереш, Петр неожиданно сказал:
— Слушай, Иошка, нельзя ли устроить так, чтобы мне здесь остаться? Нужда в людях здесь, верно, больше, чем в Вене.
— Особенно в тех, кого разыскивает полиция и кого она великолепно знает в лицо. Чтобы всех нас поставить под угрозу? Так, что ля?
— Значит, я должен уехать?
— Что с тобой приключилось, Петр? Утром тебе и в голову не приходило…
Петр молчал. Да что бы он и мог сказать? Секереш высмеял бы его, заикнись он только о том, что Тереш пахнет фабрикой, тогда как от Мартона пахло нищетой.
Секереш принес вечернюю газету.
— Вот, почитай-ка, — и он ударил пальцем по столбцу с длинным списком убитых под Будой.
«Дезидерий Альдор, студент-юрист», — прочел Петр указанную Секерешем фамилию.
— Знаешь, кто это?
— Как будто я где-то слыхал эту фамилию, но где именно — что-то не припомню.
— Ты, верно, знал его под фамилией Леготаи или Бескид. Да, да! Товарищ Бескид умер героической смертью, сражаясь за отечество под флагом его величества короля.
Секереш смеялся, но от этого смеха лицо его не повеселело, наоборот — затуманилось.
Когда на прощанье Секереш пожал ему руку, глаза Петра Ковача, коммуниста, видавшего виды, наполнились слезами. Он грустил вовсе не то том, что должен был расстаться с Секерешем. Он уже давно привык к необходимости время от времени расставаться с товарищами, чтобы потом на каком-нибудь другом фронте мировой революции вновь с ними встретиться. Это в порядке вещей. Но после разговора с Секерешем, — беседа была короткой, они провели вместе не больше двух часов, — то, что вчера он только предчувствовал, перешло в уверенность. В движении предстоят большие перемены, отчасти они уже произошли. В чем именно эти перемены заключаются — он точно не знал. Когда, вернувшись из Чехо-Словакии, он увидел на Вацском проспекте дымящие фабричные трубы, ему сразу стало понятно, в чем дело. Но сейчас он только чувствовал, что Тереша трудно вообразить себе на дамском велосипеде распространяющим листовки, так же как Мартона трудно было бы использовать для какой-нибудь забастовки из-за зарплаты.