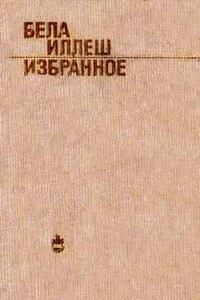Петр молча выслушивает инструкции, кивает головой. Рот у него полон.
— Ну, а дальше? — спрашивает он, покончив с завтраком.
— Если устали, спите. Я ухожу на работу.
Тереш ушел, ни словом не намекнув, в чем именно заключается его работа.
Лежа на диване, Петр обозревал полутемную камеру. Стул, шкаф, закрытый на замок, диван, на котором он сам лежит, — вот и вся меблировка.
Из соседней комнаты — через полуоткрытую дверь — ему виден лишь край простого соснового стола. Стол, как тысячи таких же сосновых столов, и все же…
Петр ярко представил вчерашнюю картину. Длинный, покрытый плюшевой скатертью стол. Кофейные чашки. Одна опрокинута, и кофе оставил след на красном бархате. Две жестяных пепельницы, полные окурков. Окурки, пепел на блюдцах.
Вокруг стола девять, быть может, десять человек. (Так порой считаешь число ударов, когда часы уже пробили.) «Да, десять, — решил он. — Вокруг стола сидело именно десять человек». С того края стола, который Петру сейчас виден, сидели, тесно прижавшись друг к другу, Секереш и Шульц. Перед Секерешем лежали книги, тетради, исписанный лист бумаги и географическая карта. Небритое лицо Секереша пополнело. За спиной Шульца — Тереш. От него, если подойти близко, пахнет окисью железа — заводом. Остальные… Петр ясно представил их себе. Один, высокий, верно — каменщик. Другой, лысый, горбатый, — кожевник. Третий в очках, — либо портной, либо служащий магазина. А, впрочем, быть может, и мелкий чиновник.
«Лысый бесспорно кожевник», — мысленно повторил он с такой уверенностью, будто ему это известно из официального документа.
Петр пробует отвести свои мысли. Он пытается припомнить споры в комнате Веры. Но странно, вчерашние образы, так мимолетно промелькнувшие перед ним, затуманили и оттеснили издавна близкие ему лица. Милая фигурка Мартона кажется ему незначительной рядом с мощным торсом Тереша.
«Чепуха! — думает Петр. — При чем же тут рост?»
Он вскакивает. Снова ложится.
— Чепуха! Чепуха! — повторяет он. — Чепуха!
Он бранит себя. Но это не помогает. Мартон. Вера. Андрей. И тотчас же встает в памяти типографская машина без шрифта. Тереш с его запахом и вся вчерашняя компания, столь сурово его встретившая, напоминают ему о фабричных трубах.
Э-эх-ма!..
Он проводит рукой по глазам, словно отгоняя какое-то видение.
— Э-эх!..
Закрывает глаза. «Не думать ни о чем».
— Ни о чем, ни о чем, ни о чем… — повторяет он.
Машинально произносит слова, а мысли уже заняты королевским путчем. Тереш ни словом не обмолвился о результатах вчерашнего боя. Выгнан ли король из страны теми самыми людьми, которые еще несколько дней назад выносили Петру приговор «именем его величества», или победил король и вошел уже в Будапешт?
Петр задерживает дыхание, прислушивается. Напрасно. Ни пушечных выстрелов, ни трескотни пулеметов. Ничего! На дворе играет шарманка. Все тихо…
Разбудил его Секереш.
Петр протер глаза и сразу вспомнил вчерашнюю картину. Лицо Секереша на самом деле пополнело.
— Ты растолстел, Иошка.
— Не удивительно, — ответил Секереш. — У меня ведь столько дел! Его величеству опять-таки дали коленкой под зад. С этим королем нам не везет. Его дела не лучше наших. Разница лишь в том, что он со своими богослужениями потерял один день, а мы в перебранке потеряли два. Ему вряд ли удастся поправить упущенное, а для нас даже упущение — лишь урок. Так, как мы работаем, работать дальше нельзя. Впрочем, тебя сейчас больше всего должна интересовать твоя собственная судьба.
— Ты ошибаешься. Меня интересует прежде всего судьба партии. Положение партии…
— Партии? Это слишком громко сказано. Да. Слишком громко.
Лицо Секереша растянулось в насильственной улыбке. Выражение довольства исчезло.
— Положение партии таково, что партии у нас пока нет. Нет и не будет, не может быть, пока мы в этом сами себе не сознаемся. Честное слово! Дело обстоит именно так. Не понимаешь? А факты свидетельствуют довольно определенно. К сожалению, даже слишком определенно. Под Пештом идет бой. И если я хочу связаться с уйпештской или кишпештской организацией, поехать в Уйпешт я не могу. А если бы даже и мог поехать, я все равно не знал бы, к кому мне обратиться. И вот должен я писать в Вену и гадать, попадет мое письмо в Уйпешт или не попадет? А если и попадет, — случится это не раньше чем через две-три недели. И, пожалуй, будет лучше, если не попадет. Ведь пока до уйпешских товарищей дойдут мои сообщения, они настолько утратят свой смысл, что там им может показаться, не занимаюсь ли я древне-историческими исследованиями? И товарищи будут почем зря крыть мою дурацкую интеллигентскую башку. Нашел, дескать, время чем заниматься! Честное слово. Ты подумай-ка, Петр! Под Будой — перестрелка. Две тысячи бандитов — с одной стороны, и немногим больше студентиков — с другой. И эти опереточные войска решают судьбу страны? Я знаю, вопрос сейчас уже или еще не стоит так: или они — или мы. Вопрос идет о том, кто из них? Но все же нам следовало бы вмешаться в это дело. Социал-демократы — те просто струсили, а мы все готовимся. Единственный жест, сделанный нами в этой суматохе, это манифест за подписью короля Карла. Товарищ Гюлай именем короля освободил офицеров национальной армии от присяги, данной ими Хорти. Великолепно, не правда ли? Честное слово… Обидно. А ведь как отлично можно было бы здесь работать, Петр! Честное слово… Ваш процесс сыграл большую роль. Хотя надо признаться: когда узнали о ваших пытках, то столько же народу порвало свои связи с движением, сколько, наоборот, решилось включиться в него. Ваша работа перед арестом — твоя, Шульца, Андрея, — ваш план организовать работу по фабрикам были прекрасны. Мы проводим его в жизнь. И впервые после поражения революции мы сейчас действительно стоим на твердой почве: работой охвачено несколько крупных предприятий. На предприятиях работа идет вовсю… Если мы сами не испортим дела. Я далеко не наивный человек, но даже самый трезвый расчет говорит за то… Ну, да ладно, не будем вдаваться в планы. Я и то боюсь, что завтра появится еще какая-нибудь новая теория, по которой уже не только уважение перед революционными традициями венгерского пролетариата, но и вера в его будущее будет объявлена неэтичной.