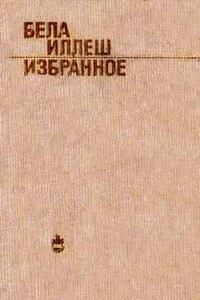В четверг вечером за Гроттесманом пришли два жандарма.
— Собирай вещи!
В пятницу утром Петр получил передачу.
Ветчину, колбасу, сыр, фрукты, целый торт и сотню папирос. Под тортом было спрятано письмо.
От Марии Рожош.
В Берегсасе заключенных кормили плохо. Передачи допускались редко и нерегулярно. Таких обильных и изысканных передач, как на этот раз, еще не бывало.
Петр чуть не запрыгал от восторга.
Пока Секереш возился с тортом, он набросился на письмо. Но оно сильно омрачило его радость.
— Гм… Погляди-ка, Иосиф, — сказал он, протягивая Секерешу письмо после того, как трижды прочел его.
— А ты разве другого ждал? — спросил тот, возвращая письмо.
— Понятно, другого.
— Дурак ты! Я всегда был определенного мнения о Мария. Истеричная девка! Дело ясное.
— Мог бы иначе о ней говорить. Видишь, как она о нас заботится. Значит, не так уже «ясно».
— Если кто не желает видеть действительности, тому ничего ясно не будет.
— Просто ты стал желчен и несправедлив.
— А поди ты! Тебе правда глаза колет, вот что!
Петр не ответил. До вечера в камере не разговаривали.
За это время Петр раз десять, по крайней мере, перечитал письмо.
«Дорогой, дорогой Петр!
Мне очень больно, что как раз теперь, когда я потеряла все, что у меня было святого, я не могу видеть тебя, не могу говорить с тобой. Движение, революция — словно тысячу лет назад все это было! Мировая революция? Ленин сам сделался оппортунистом и назвал радикализм «детской болезнью». Детская болезнь? Все, за что мы боролись, Чем жили, — детская болезнь? Многие от нее умирают, но те, которые выживают, раз навсегда застрахованы от нее. Да, теперь я уже и Ленину не верю! И если он сам выступил против революционеров, я все-таки останусь революционеркой.
Через десять дней я уезжаю в Прагу. Буду учиться. Здесь я теперь не нужна. То, что от движения осталось — мелкие вопросы зарплаты, профсоюзные и прочие, — в этом для меня места нет. Самое разумное, что мне остается, это заполнить время ожидания учебой. Я уверена, что придет еще мое — наше — время. Что бы ни случилось, я верю, что революция победит.
Тебе, милый, дорогой Петр, грозит очень большая опасность, будь осторожен. Бескиду можешь довериться вполне. Будь умницей. В Праге разыщи меня у сестры: Венцельплатц, № 12, квартира 3. Будь умным, не теряй веры — тогда еще все-все может сложиться хорошо.
Твоя Мария».
До самого вечера в камере не разговаривали. Все послеобеденное время Секереш простоял у окна. Он напевал:
Дешева твоя кровь, бедняк,
Зарабатываешь медный грош —
И его не истратить никак…
Против двух язычников кровь
За отчизну по капле прольешь…
— Эх, — вырвалось, наконец, у него, — хватит всей этой ерунды! Язычники, отчизна… Честное слово… Слушай, парень, примемся-ка лучше за проработку резолюций Второго конгресса Коминтерна. Завтра, с самого утра, и начнем. По рукам?
— По рукам.
— Кто может быть этот Бескид, чорт его подери? — сказал Петр, когда оба они улеглись.
— А чорт его знает! Может быть, судья какой-нибудь, а не то… Да, впрочем, чего там голову ломать! Довольно у нас и без того всяких задач. Эта ленинская брошюра, которую мы получили, страх как интересна. Жаль, что ты по-русски не понимаешь. И особенно жаль, что я не прочел ее тремя месяцами раньше… Честное слово!
В субботу вечером в камеру ввалились четверо жандармов.
— Собирай вещи!
В канцелярии письмоводитель прочел заключенным два постановления:
— Следователь… Прокурорский надзор…
Петр ничего не понял, но Секереш, прослушав первое постановление, шепнул ему:
— Освободят!
За первым постановлением последовало второе.
Секереш невольно вскрикнул от ужаса.
Второе постановление гласило, что в «удовлетворение ходатайства польского министерства юстиции о выдаче венгерских подданных Иосифа Секереша и Петра Ковача, разыскиваемых польским судом по обвинению в уголовных преступлениях, берегсасский прокурор определяет: выслать их обоих в Польшу и предать в руки польских властей».
На вокзал их сопровождали два сыщика. В двадцати шагах спереди и сзади шагало по жандарму. Вместе с арестованными в вагон сели сначала только оба сыщика, а за несколько минут до отхода поезда вошли и жандармы. Арестованные не были закованы в кандалы.