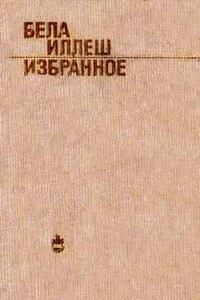— Выслушай меня, Лаката, — сдержанно начал он. — Прежде, чем обвинять, ты должен войти в наше положение. Ты должен знать…
— Знаю, знаю, — перебил его Лаката. — Ты, конечно, сумеешь мне доказать, что я сам помешал посылке нам подмоги. Заранее согласен со всем, что ты скажешь…
— Лаката, давай говорить серьезно…
— Серьезно? Это раньше надо было быть серьезным, когда дело было не в разговорах. Рожош, Окуличани… Ты так долго разыгрывал из себя социал-демократа, что, должно быть, и на самом деле стал им…
— А, чтоб тебя!..
— Понятно! Рожош, Окуличани и чорт его знает, кто еще. С ними ты умел ладить, а…
— Ты!..
Секереш погрозил Лакате кулаком.
— Ты!.. Сейчас же замолчи!..
Он прикусил губу и проглотил слово, готовое сорваться у него с языка. Потом повернулся к Лакате спиной и целый час неподвижно простоял у окна.
Лаката, с трудом поднявшись на ноги, швырнул на койку Секереша его подушку и одеяло.
Два дня в камере не было произнесено ни слова. Заключенные ели из одной тарелки, пили из одного стакана, курили одну папиросу, но ни единым словом не обмолвились между собой и даже избегали встречаться взглядами.
На третий день они получили нового товарища: Петра Ковача.
У Петра голова была забинтована, и под левым глазом темнело фиолетовое пятно — следы полицейских допросов.
Лаката и Секереш одновременно бросились его обнимать. Секереш едва не заплакал от радости.
— Да, все было бы по-другому, — стал рассказывать Лаката, — если бы мы с самого начала не возлагали надежды на вашу помощь. Мы ждали два дня, целых два дня потеряли, а когда, наконец, получили что-то вроде помощи — бедный Тимко! — тогда уже было поздно.
— Сила революционной армии — в наступлении, — сказал Секереш.
— Мы и наступали. Как только прибыл Тимко, тотчас же начали наступать. Эх, Петр, если б ты видел! Каждый человек, каждый солдат наш вел себя героем, каждый порывался на первую линию огня… Как мы шли!..
Его лицо сияло. Петр и Секереш слушали, боясь проронить слово.
— Ничего подобного я еще не видел, и все же… Ты только подумай, Петр: солдаты, босые, оборванные, с одними ручными гранатами шли в атаку на польские пулеметы, словно те не пулями, а горохом стреляли. А как их косили — ужас. И когда они подошли к полякам на такое расстояние, что могли кинуть гранаты, — ни одна не разорвалась. Солдаты с голыми руками бросились на поляков, били их кулаками, кусали — все до единого полегли… Бедный Тимко!..
Несколько минут протекло в молчании.
— Мне кажется, — начал Секереш, — что если бы вы во время и энергично начали наступление…
— Ты не имеешь права критиковать нас, — тихо произнес Лаката.
— Что-о-о? Не имею права?..
— Слышь, ребята, вы с ума сошли, что ли?
Петр мог говорить что угодно, те ничего уже не видели и не слышали.
— Не имеешь! Никакого права! Вы предали нас!
— Это мы вас предали?
— Вы!.. Ты!..
— Не вмешайся во-время Петр, Секереш с кулаками бросился бы на Лакату. Петр грубо оттолкнул Секереша, так что тот отлетел к стене, а Лакату бросил на койку — тоже далеко не так бережно, как это полагалось бы в отношении больного.
— Сумасшедшие!
Лаката повернулся к стене, Секереш тоже повалился на койку и зарыл голову в подушку.
До самого вечера в камере длилось молчание.
— Ложись ко мне, места хватит, — позвал Секереш Петра, когда стемнело.
— А я уже приготовил тебе место у себя, — раздался голос Лакаты.
— Как вам не совестно! Словно два сопляка! — вырвалось у Петра. — Словно два глупых сопливых мальчишки!
Петр улегся на полу.
Хорошо еще, что у него было пальто. Ночи стояли холодные.
Наутро к ним пожаловал новый постоялец — Готтесман.
Вечером за Лакатой явились два жандарма.
— Собирай вещи!
— Это как — на свободу?
Вместо ответа его заковали в кандалы.
Петр и Готтесман молча стояли возле Лакаты. Секереш шумно вздыхал.
— В Венгрию или в Польшу?
Жандармы не ответили.
Первым обнял Лакату Петр, потом Готтесман, последним Секереш.
У всех на глазах были слезы.
Это происходило во вторник вечером.
В среду утром Петр и Готтесман ругали друг друга последними словами. Началось с того, что Готтесман усомнился в украинском происхождении русинских крестьян, и высшей точки спор достиг тогда, когда Готтесман заявил, что если партия не исключит всякого, кто до сих пор занимал мало-мальски ответственное положение и открыто не заклеймит их как предателей, то дело революции погибло.