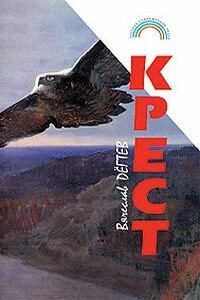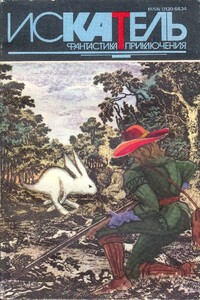Странно, второй месяц летает Левка над этими местами, а почудилось, что впервые все видит… А теперь, похоже, и в последний раз.
Литвинов вновь громко застонал… Запрокинувшись, хватал он перекошенным ртом воздух, рукой с побелевшими суставами судорожно уцепился за красный поручень катапультного кресла.
— Чуть-чуть… пять минут потерпите, командир. Все будет хорошо, сейчас сядем, — с надрывом крикнул Левка, резко переводя кран выпуска закрылков.
Закрылки выдвинулись с чмоканьем. Самолет клюнул носом — Левка плавно поддернул его ручкой. Скорость стала ощутимо падать, как будто машина влетела в иную, густую и вязкую, среду. Самолет стремился опустить нос, казалось, что на ручке управления висит какой-то груз, — приходилось подтягивать и подтягивать, а чтобы не «сыпаться» — понемножку поддавать и поддавать обороты.
— Сейчас… сейчас сядем, Борис Васильевич, — бормотал Левка, впервые называя Литвинова по имени-отчеству (все равно теперь почти уже гражданский). — Все будет хорошо… Сейчас… еще немного… — скорее для себя бормотал Левка, выводя самолет из разворота так, чтобы клетчатая серая полоса легла на лобовое стекло.
Плывет, надвигается, растет, вспухая, выворачиваясь пупом, то место, где лежит на траве белое полотнище, «место начала выравнивания», — туда скользит с воздушной горы Левка. И вот уже она — выгоревшая парусина… Пора! Обороты прибрать, ручку на себя… Мало! Еще на себя, еще… Черт, ветер сносит! А мы — педальной! Педальной! Ага, как утюг идет, ровно! Еще подобрать ручку… плавнее… плавнее… Замелькали плиты, исчерканные полосками стершейся резины. Еще чуть-чуть подобрать… Все, задержать на секунду… Сели!
Колеса шаркнули по шершавому бетону раз, другой и зашуршали… Левка улыбнулся, вздохнул облегченно и счастливо, но, вспомнив о Литвинове, вновь покорил себя: ну что за эгоист! Изо всей силы зажал тормоза. Колодки басовито заскрипели, самолет, задрав хвост, навалился на переднее колесо, влипая в бетонку, но скорость падала слабо. Резко свернув на ближнюю рулежку, Левка понесся к санитарной машине.
— Куда разогнался? На пожар, что ли?
Левка обалдело повернулся. В глазах Литвинова плясали рыжие чертики; он широко улыбался, так, что видны были белые металлические пломбы в коренных зубах.
— Вперед смотри, задавишь кого-нибудь! Отвечай потом за тебя, — ворчливо добавил комэск. — И тормозни у заправки — выйду.
— А… а я? А мне — что?
— Как — что? У тебя еще два полета по плану. Самостоятельных!
Литвинов снял шлемофон, вытер шею влажным подшлемником. Тянул слабый ветерок, унося обрывки утренней дымки, ставшей совсем бесцветной и тонкой, как целлофан. Ветерок приятно холодил, но уже чувствовалась по каким-то непонятным, неясным признакам приближение зноя. Смола на стыках бетонных плит жирно лоснилась и липла к подошвам. В одном месте, прямо посреди рулежки, распушился, проломив гудронный панцирь, светло-желтый одуванчик. Литвинов остановился. Наклонился. Присел.
— Ух, ты какой! И как же тебя угораздило здесь вырасти, дурашка?
Цветок безмятежно, ничего вокруг себя не желая замечать, купался в лучах ласкового солнца, довольный жизнью. Ничегошеньки-то он в ней не понимал!..
— Странно, не раздавили и не сожгли… Счастливчик. — Литвинов дунул — и полетело, понеслось на пушистых, прозрачных парашютиках, раскачиваясь, как в колыбелях, многочисленное одуванчиково племя.
— Вот тебе и новый вид: одуванчик аэродромный! Как это до латыни?..
Литвинов улыбался, и улыбалось в ответ солнце, и ветер растопыренной холодной пятерней по-детски ерошил его волосы, побитые пятнами седины, и ревели, сотрясая расширяющийся зной, двигатели, и жестяно гремел громкоговоритель, и, заглушая все, пел в бездне неба, где-то рядом с солнцем, жаворонок…
— Уменьши скорость! Ручку подбери — носом ткнешься. Еще! — неслось из раструба громкоговорителя.
— Три — шестьдесят первый второй поворотный прошел… курс…
— Подожди, шестьдесят первый, не до тебя… Подтяни! Еще! Прибавь оборотов!
— Три — шестьдесят первый второй поворотный…
— Отстань, говорю, шестьдесят первый! Убирай обороты! Задержи ручку! Сел. Как ворона… Ну что там у тебя, шестьдесят первый? — только быстро!