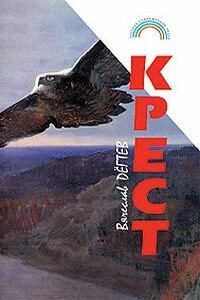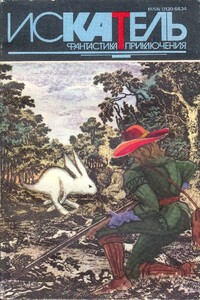Санька, всю зиму сдиравший у Левки аэродинамику и сопромат, самостоятельно вылетел одним из первых в эскадрилье и уже летал без инструктора в зону и по маршруту, про него говорили, что он талант, что прирожденный летчик и что «самолет чует задницей», а это было высшей похвалой.
— Поменьше чувств, вперед и с песней! Остальное — дело техники. А техника у нас — сам знаешь… — И он опять стукнул по крылу, теперь ладонью, мускулистой и крепкой, как подметка, — и звук получился гулкий и громкий.
Из-под самолета вылез с банкой желтоватого отстоя чумазый техник, косолапый и с мешками на коленях.
— Ты чего это хулиганишь, Селиванов? А ну иди к своей машине. Пошел, пошел! — прогонял техник, гладя рукой крыло: не помял ли? — А ты чего раскис, по бокам развис? — хмуро посмотрел он на Левку. — Плюнь, считай дело в шляпе — вылетишь. Шатун и не таких дубов выпускал. Ну-ка, ну-ка… надевай шлемофон — вон он уже идет.
Показался комэск, шел он, как всегда, качаясь и мягко припадая на ноги, за что и прозвали его Шатуном. Когда комэск подошел, Левка сделал два шага ему навстречу, приложил руку к шлемофону.
— Товарищ проверяющий, курсант Львин к полету готов.
— Вижу. Настроение как?
— Боевое! — ответил Левка и покраснел.
— Не вижу. Ну да ладно… У тебя что? — повернулся к технику.
— Все в порядке, товарищ подполковник. Самолет к полету готов.
«А курсант скованый, — думал Литвинов, пристегивая парашютные лямки. — Похоже, поставил на себе крест, хоть и хорохорится из последних сил». — Тебя как звать, Львин?
— Львом.
— А полностью?
— Зачем вам? — смутился Левка.
— Ну как же… Ты человек уже взрослый…
— Ну, Лев Николаевич.
— Ого! Кучерявое имечко. Прямо как у классика… Нет, я не смеюсь, не подумай… Это твои стихи в гарнизонной газете печатали?
— Мои.
— Хорошие стихи. Нет, правда… Первый раз с поэтом летаю, даже не верится… О ты, черт, карабин что-то не застегивается… А чего же ты меня боишься, Лев Николаевич? Что такой заторможенный?
Левка вздрогнул от неожиданности и потупился.
— Я не боюсь…
— Правильно, чего меня бояться, я — добрый дядька.
Левка взглянул на комэска через плечо, улыбнулся.
— Да я знаю.
— Вот и хорошо… Короче так, Лев Николаевич, в полете делай все сам — меня нет, — договорились?
— И вмешиваться не будете?
— Конечно, не буду.
— Ладно, посмотрим, — ухмыльнулся Левка. — Мне уже обещали не вмешиваться…
— Говорю — не буду, значит, не буду. Запускай и поехали… А стихи ты в самом деле пишешь неплохие, — проговорил Литвинов, устраиваясь поудобнее на жестком сиденье.
…Этого Львина проверял сперва командир звена. На разборе полетов вечером докладывал он, как всегда обтекаемо:
— Мне кажется, курсант еще недостаточно подготовлен. Часто допускает ошибки, иногда очень грубые. Я думаю, пусть инструктор поработает с ним дополнительно.
В чем не подготовлен курсант, какие ошибки допускает — не сказал.
Потом, после дополнительных упражнений, летал с Львиным майор Волков, заместитель командира эскадрильи.
— Летчика из него не получится… (шлеп)… — сыпал словами маленький майор, быстро расхаживая взад-вперед и шлепая себя по колену снятым шлемофоном. — Списывать надо… (шлеп)… Пусть хвосты заносит… (шлеп)… Раскис, понимаешь, как барышня… (шлеп)…
«Чего он шлепает? — подумал тогда Литвинов. — Так и очки расколет…»
— Я ему высотомер и компас отключил… (шлеп)… Он даже не почесался… (шлеп)… Одно слово — созерцатель… (шлеп)… Говорят, стишки сочиняет… Ха-ха-ха… Вот и пусть… (шлеп).
Волков был старой закваски, еще из «сталинских соколов»; любил ругаться в эфир, любил отключать у курсантов приборы и всячески вводить их в заблуждение, а еще больше любил, когда они быстро замечали подвохи и «действовали согласно инструкции». Таким он прощал все: и плохую успеваемость, и дремучую лень, даже самоволки…
Запустив двигатель, Левка загерметизировал кабину, проверил системы. Все было исправно, показания приборов в норме. «Ну, главное, собраться, не спешить», — в который раз сказал себе, выруливая со стоянки.
Самолет рыскал по рулежке, норовя съехать на сизую от росы мураву. Левка всякий раз приглушенно чертыхался, выправляя непослушную машину, не желающую катиться ровно, и каждый раз сжимался, затылком ожидая окрика. Но Литвинов молчал…