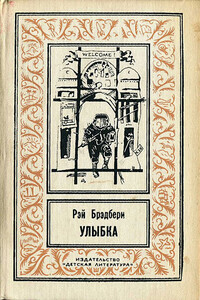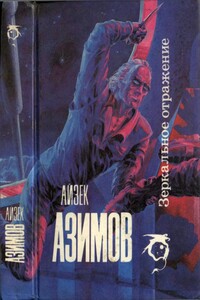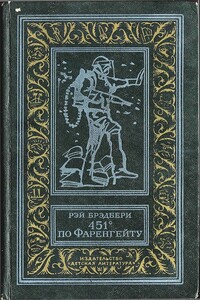32
На рассвете оглушительной силы гром прокатился по холодным небесам. Дождь безмолвно упал на городские купола и крыши, и тут же захохотал, закудахтал в водосточных трубах, заговорил на неведомых тайных языках под окнами, за которыми Джим и Уилл досматривали отрывочные сны, выскальзывая из одного и примеряя другой, и все сны казались скроенными из одной и той же темной рассыпающейся ткани.
И под барабанную дробь дождя случилось одно знаменательное событие.
В промокших просторах, где расположился карнавал, неожиданно с судорожным спазмом вновь ожила карусель. Ее орган-каллиопа, извергая музыку, засвистел зловонным паром.
Возможно, лишь один человек в городе услышал и угадал, что карусель опять заработала.
Дверь в доме мисс Фоли открылась, затем захлопнулась, и вдоль улицы послышались торопливые шаги учительницы.
Молния исполнила свой уродливый танец над землей, и дождь превратился в ливень, и земля исчезла под водой.
В доме Джима и в доме Уилла, когда дождь сунул нос в окна, за которыми уже завтракали, сначала разговаривали спокойно, потом кричали, потом снова успокоились.
В четверть десятого Джим, надев плащ, кепку и калоши, прошмыгнул на улицу в воскресную непогоду.
Он стоял, внимательно разглядывая свою крышу, где след гигантской улитки теперь был смыт напрочь. Затем он стал пристально глядеть на дверь Уилла, чтобы заставить ее открыться. Она отворилась. Появился Уилл. Из холла послышался голос его отца: «Хочешь, чтобы и я пошел?» Уилл решительно покачал головой.
Мальчишки шагали в мрачной задумчивости, пасмурное небо напоминало, что надо идти к полицейскому участку, чтобы рассказать о случившемся, к дому мисс Фоли, чтобы еще раз извиниться, но сейчас они просто шли, засунув руки в карманы, раздумывая о страшных вчерашних головоломках. Наконец, Джим нарушил молчание:
— Прошлой ночью, после того, как мы вымыли крышу, едва я уснул, мне приснилась похоронная процессия. Она двигалась вниз по Майнстрит, словно шла демонстрация.
— Или… как парад?
— Точно! Тысяча людей, все в черных пальто, в черных шляпах, в черных ботинках, и гроб сорока футов в длину.
— Врешь!
— Точно! Что можно хоронить в сорокафутовом гробу? — подумал я. И во сне подбежал и заглянул в гроб. Только не смейся.
— Не вижу ничего смешного, Джим.
— В этом длиннющем гробу лежало что-то такое большое, длинное, сморщенное, похожее на чернослив или на громадную виноградину, высохшую на солнце. Это было похоже на большую кожу или на высохшую голову великана.
— Воздушный шар!
— Ой, — Джим остановился. — Ты, наверное, видел такой же сон; Но… ведь воздушные шары не умирают, верно?
Уилл молчал.
— И их не хоронят, правда?
— Джим, я…
— Проклятый шар лежал, как какой-нибудь гиппопотам, выпускающий ветер из…
— Джим прошлой ночью…
— Черные перья качаются, оркестр с черным крепом на барабанах, с черными слоновыми костями вместо колотушек! И вот после такого сна приходится вставать утром и рассказывать маме о вчерашнем. Не все, разумеется, но ей и части было достаточно; она заплакала, закричала, потом опять заплакала, ведь женщины любят плакать, верно? Она называла меня своим преступным сыном, но ведь мы не сделали ничего плохого, правда, Уилл?
— Кто-то чуть было не прокатился на карусели.
Джим шел под дождем, не разбирая дороги.
— Не думаю, что мне еще раз этого захочется.
— Ты не думаешь!? После всего что было\? Черт возьми, сейчас я расскажу тебе кое-что! Ведьма, Джим, воздушный шар! Прошлой ночью, совсем один, я…
Но рассказывать не было времени.
Не было времени рассказать, как он ранил шар и тот улетел умирать в дальнюю сторону, унося с собой слепую женщину.
Не было времени, потому что шагая под холодным дождем, они вдруг услышали какой-то горестный звук.
Они проходили мимо пустыря, в глубине которого высился огромный дуб. От него сквозь дождливый сумрак и пробился к мальчикам этот звук.
— Джим, — насторожился Уилл, — кто-то плачет.
— Нет, — Джим продолжал шагать.
— Там маленькая девочка.
— Нет. — Джим не хотел даже взглянуть. — Что ей делать на улице под деревом в такую погоду? Идем.
— Джим, ты же слышишь!
— Нет, не слышу, не слышу!