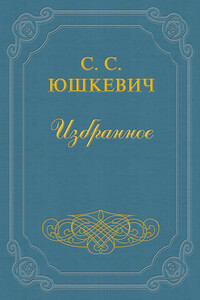К счастью, мать ограничилась только тем, что промыла ему царапины перекисью водорода и потребовала, чтоб он прижал к шишке что-либо холодное. Валерий, хоть и с явным опозданием, покорно приложил ко лбу металлическую рукоять столового ножа. Рукоятка была узковата, и синие края шишки остались неприкрытыми.
Лена глубоко вздохнула.
– Я, откровенно говоря, жутко перепугалась, – призналась она, устало улыбнувшись.
– Вообще-то основания были, – ответил он и непоследовательно добавил: – Но, конечно, ты зря...
– Что – зря?
– Хотя, конечно, ты меня спасла.
– Ну, знаешь, с тобой пойми что-нибудь! – шутливо возмутилась Лена.
– С тобой тоже иногда трудно бывает понять! – отпарировал Валерий.
– Например?
– Да вот хоть перед Новым годом – чего ты тогда на меня взъелась?
– А разве я тогда на тебя взъелась?.. – Лена хитро прищурилась, откинула назад голову, точно стараясь отыскать что-то в памяти.
– Представь себе!
– Это, что ли, после группы, где с «бомбой-полундрой» была история?
– Тогда.
– Тогда... – Лена помедлила, – мне, во-первых, было очень обидно, что никто, и ты тоже, не сумел придумать ничего более умного, чем Ляпунов.
– Так ведь и сама ты, по-моему...
– А может, я от тебя ждала большего, чем от себя?
– Ну, это уж ты... – Он смешался.
– А во-вторых, – продолжала Лена, – мне, если тебя интересует, очень не понравилось, что ты сразу же согласился встречать у Ляпунова Новый год и даже не полюбопытствовал сначала, хочу ли я быть там. Я до этого думала, что у нас дружба. А тут показалось, что ты ко мне относишься как-то так...
«Я отношусь к тебе так, – произнес Валерий мысленно, – как...» И он вспомнил вдруг имя героя кинокартины: Антонио. Его звали Антонио! Как просто!
«Я отношусь к тебе, как Антонио к Кармеле!» Теперь ничто не препятствовало ему сказать это. И лучшей минуты не будет, потому что сейчас эти слова – ответ ей.
Он отвел ото лба нагревшийся нож и встал, чтоб вымолвить: «Я...» Но, на беду, увидел в зеркале над диваном свое отражение. Его лицо было неизмеримо страшнее, чем он представлял себе. Он не знал, что бугор на лбу лилов, что щека распухла, а под глазом разлился синяк...
Валерий потрогал пальцем синяк, прикрыл теплым ножом дулю и ничего не стал говорить.
После каникул, когда в школе возобновились занятия, уже у всех учеников было на устах преступление Шустикова и Костяшкина. Известно было, что скоро суд. Старшие говорили об этом деле глухо. Тем больше было и шума и шушуканья по этому поводу.
И еще одно приковывало к себе в те дни внимание ребят – впрочем, главным образом старшеклассников: поведение нового завуча.
Как-то после очередного выпуска радиогазеты «Школьные новости» он подошел к Станкину и сказал:
– Если я не ошибаюсь, только что передавали, что «интересно прошло занятие литкружка, на котором руководительница рассказывала о творчестве малопопулярных, но талантливых поэтов первой четверти века – Блока и Есенина». Так передавали, я правильно расслышал?
– Так. Совершенно правильно, – без удивления ответил Станкин, отметив про себя только, что у нового завуча завидная память.
– Значит, вы считаете, Блок и Есенин – малопопулярные поэты? – спросил Евгений Алексеевич, напирая на «мало».
– Я, собственно, не занимаюсь в литкружке, – сказал Станкин.
– Это неважно. Я спрашиваю вот о чем: по вашему мнению, этих поэтов мало сейчас читают?.. Мало читали?.. Ну, относительно прошлого мне, пожалуй, лучше известно.
– Мало читают? – Станкин прикинул. – Да нет. В магазине приобрести фактически невозможно. Есенина просто никак. И Блока... А что, Евгений Алексеевич?
– А то, что как же у вас, в таком случае, затесались «малопопулярные»?
– Кто-то из ребят написал. Ну, я подумал, что так, видно, нужно. Что... ну, принято, словом, так оценивать, – легко ответил Станкин.
– У нас с вами, – медленно сказал новый завуч, – чрезвычайно серьезный и важный разговор. Нужно, чтоб вы отдавали себе в этом отчет.
– Да, Евгений Алексеевич... – проговорил Станкин с напряженным и подчеркнуто внимательным выражением лица.
Раздался звонок, но завуч не отпустил его, и они остались вдвоем в коридоре, сразу ставшем гулким.