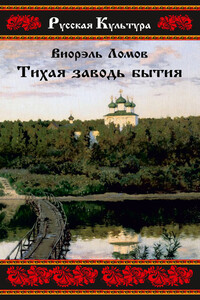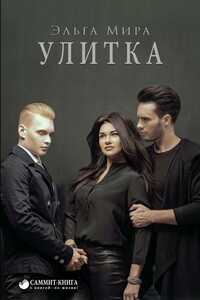Теперь об этом говорить уже поздно: город и фабрику построили, а деревни — нет. А кабы сделали, как говорила Корбелева, был бы и город, и фабрика, и деревня, то есть три вещи, а не две, как сейчас. Но так выходило у инженеров, видно, им лучше знать, как должно быть.
Корбелевой уже нет в живых: она повесилась, но не из-за строительства, а из-за того, что по ее вине погиб сынишка Гонсерека.
Кто-то пустил слух, будто в деревню едут машины. Вот Корбелева и говорит этому мальчонке, его Ясеком звали: «Полезай на вяз да посмотри, правда ли, что машины в деревню едут». Крестьянам уже объявили, что скоро начнется строительство и приедут землемеры, — и хотя она об этом знала, ей не верилось, что посмеют тронуть деревню.
Ясек залез на самую верхушку дерева, — вяз был старый, трухлявый, — верхушка обломилась, и мальчик упал и напоролся на штакетник. Когда его сняли со штакетника, у него кишки наружу вылезли, и он скоро умер. Примчался его отец, старый Гонсерек, и — к Корбелевой: узнал, что это она велела Ясеку залезть на вяз, но не ударил ее, а только сказал: «Что же ты, женщина, наделала?» А Корбелева как-то странно взвизгнула и побежала в сарай. Никто на это не обратил внимания — не до нее было. Потом кто-то увидел, что Корбелева висит в дровянике на цепи: почернела, рот открыт, глаза вытаращены и уже не дышит.
Хоронили ее в один день с Ясеком. Моя сестра Людвика тогда еще жива была. Ксендз не разрешил внести гроб с телом Корбелевой в костел, известное дело — самоубийца. Гроб Ясека внесли, а ее гроб стоял на земле перед костелом. Но люди, вспомнив, как Корбелева встретила тех двоих из города, что приехали делать замеры, силой втащили гроб в костел.
Но прежде чем внесли гроб, ксендз встал в дверях и загородил дорогу; тогда один мужик крикнул: «Пан ксендз, пропустите гроб, бог ей судья!» А другой крикнул: «Посторонись, бог простит ее!» А третий разъярился и заорал: «Чтоб тебя кондрашка хватила!» Белза хотел утихомирить мужиков, говоря им: «Пойдемте отсюда, бог и без ксендза возьмет на небо Корбелеву». Этот Белза был мужик бывалый, и говорил он правильно, потому что бог забирает самоубийц на небо без ксендзов».
Я думал, вот сейчас Старик расскажет, почему он решил утопиться, ведь он кружил вокруг этого и как бы оправдал свой поступок, даже про выгоду помянул, какая ждет самоубийц, которых бог сам, без помощи ксендза, берет на небо. Но так ничего и не сказав о себе, он продолжал: «Этот умный мужик не мог уговорить людей отойти от дверей костела; их бы никто тогда де удержал, они думали уже не о спасении души Корбелевой, а о том, чтобы на своем настоять и внести гроб в костел. Задние напирали, и те, кто нес гроб, ввалились в костел. Ксендз должен был покориться, но отпевал он только Ясека. Однако гроб Корбелевой стоял рядом, и со стороны казалось, что ксендз отпевает обоих.
Ее похоронили на краю кладбища, а Ясека подальше от ограды. Могила моей сестры Людвики почти рядом с могилой Ясека. А недалеко от Корбелевой лежит Марцин-дурачок. Только от Марцина мало что осталось, ведь он сгорел, а когда потушили пожар и разгребли угли, от него почти ничего не осталось. Ну что за жизнь была у дурака? Смерть для таких, как он, избавление, только вот плохо, что он страшно мучился, когда его кто-то толкнул в огонь. Наверно, ему было очень больно, недаром он так закричал, а потом застонал жалобно и — конец. Лучше бы он не мучился перед смертью. Но для дурака, пожалуй, лучше умереть в мучениях, чем жить, как он жил. Верно?
Глупого Марцина и Корбелеву еще вспоминают, особенно бабы, когда сидят в хорошую погоду на балконах. Пожалуй, Корбелева не осталась бы здесь, если была бы жива, — взяла бы надел где-нибудь в другом месте. Бабам здесь хорошо, но она предпочла бы худшее. Как многие, которые взяли землю в другом повете и будут работать на земле и жить в деревне, только уже не в своей. А многие остались в городе, им хорошо здесь, а может, они только делают вид, что им хорошо. Конечно, лучше, если были бы три вещи, то есть город, завод и деревня.
Некоторые остались поневоле. К примеру, я, — куда мне было, старому, деваться? Сын не захотел уезжать, пришлось и мне остаться. Я говорю «сын», — как же мне его называть? Что ты знаешь о моем сыне?»