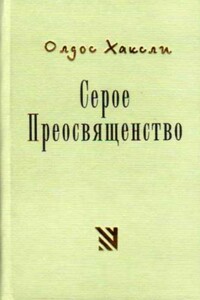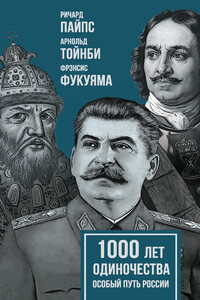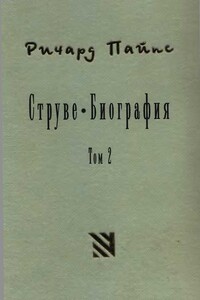Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 - страница 49
Книга Даниельсона стала своего рода «лебединой песней» того общественно-политического движения в России, «которое стремилось сочетать свои иллюзии относительно избранного для социальной трансформации народа» с идеями, позаимствованными у Маркса и Энгельса. Грубая реальность разрушила эти иллюзии и открыла двери для «более глубокого проникновения… в учение Маркса и непредубежденного, научного… объективного анализа фактов. Другая концепция пробивает и должна пробить себе дорогу».
Критика, с которой Струве обрушился на Даниельсона, особенно в том виде, в каком она была представлена в первой, более полемической статье, не замедлила вызвать настоящий скандал. В самом скором времени вопросы, затронутые в этих статьях, подверглись широкому обсуждению и вызвали большое количество публичных дискуссий.
Среди приводимых Струве аргументов наиболее шокирующими оказались его панегирики капитализму. Правда, прецеденты восхваления капитализма российскими радикалами уже имелись. Например, в 1848 году смертельно больной Белинский, узнав о поражении революции в Париже, написал другу в своей обычной прямолинейной манере: «Когда я, в спорах с Вами о буржуазии, называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль… А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазии»[169].
Дмитрий Писарев, к концу своей короткой жизни разочаровавшийся в социализме, предсказывал, что капитализм рационализирует российское сельское хозяйство и промышленность и «составит лучшую и единственную возможную школу для [русского] народа»[170]. В выражениях, очень напоминающих те, которые тридцать лет спустя использовал Струве, Писарев возлагал вину за российскую отсталость на пережитки крепостничества и чрезмерную зависимость страны от ее сельского хозяйства[171].
Но все это, по сути, относится к разряду запоздалых раздумий, а не систематических идей. Струве пошел гораздо дальше всех русских радикалов, включая Плеханова и его соратников, и поставил капитализм в центр российской политической, экономической и культурной жизни. Он был первым, кто стал смотреть на капитализм как на непременное условие для прогрессивного развития страны. В этом отношении он отличался от Маркса, который, при всей своей готовности превозносить созидательную роль капитализма, оказался способен, когда тому представился случай, допустить, что такая страна, как Россия, может миновать его стадию.
Кроме того, радикальные круги были оскорблены той небрежной манерой, в которой Струве позволил себе отзываться о голоде, называя его печальным эпизодом на пути к экономическому прогрессу. С тех пор как век назад Новиков организовал общественную помощь жертвам голода, для русской интеллигенции стало в порядке вещей выражать свое сочувствие голодающим и оказывать им посильную помощь. Возмущение, вызванное позицией Струве, усилилось после невероятного для публики, но тем не менее правдивого сообщения, что кое-где в пораженных голодом районах некоторые люди, самопровозгласившие себя «марксистами», отказывались оказывать помощь голодающим на том основании, что чем разрушительнее будут последствия голода, тем благоприятнее это скажется в плане экономического и общественного развития страны[172].
Но едва ли не большее негодование вызвал тот смысл, который Струве вкладывал в слово «народничество». Незадолго до появления в печати статей Струве Михайловский поссорился с Воронцовым, и ему было мало приятно узнать, что в каком бы свете ему самому ни рисовалось его положение, но с «объективной» точки зрения между ним и его врагом нет принципиального различия. Даниельсону же, считавшему себя марксистом par excellence, не понравилось, что его поставили в один ряд с Михайловским и Воронцовым. С. Н. Кривенко, редактор Русского богатства и автор первого отклика на статьи Струве, обвинил его в навешивании ярлыка народничества на всех защитников общины и всех приверженцев теории особого пути, определив это занятие как «непристойное». Аргументируя свое мнение, он отмечает, что создатели манифеста об освобождении крестьян, явные защитники общины, вовсе не являлись «народниками», что же касается теории особого пути, то она была одобрена самим Марксом