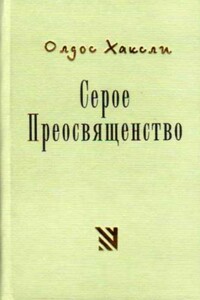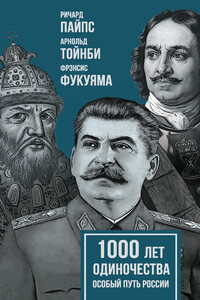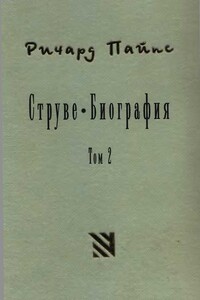После такого вступления, похожего на своего рода посмертное слово о не-социал-демократическом радикализме, Струве перешел к разбору тезисов Даниельсона, названных им «марксистским телом с утопическим лицом». После 1861 года, настаивал Струве, ничто не могло помешать приходу капитализма в Россию. Идеал Даниельсона — экономика, основанная на общине, и царское правительство, путем государственного планирования обобществляющее промышленное производство, — явно относился к разряду фантастических. Даниельсон выступал против крупномасштабной индустриализации, поскольку недооценивал значение перенаселенности деревни, для избавления от которой капиталистическая промышленность была единственным средством. Как только Россия индустриализуется, прогнозировал Струве, доля сельского населения в ней уменьшится с более чем 80 процентов до приблизительно 40–50 процентов — именно такое соотношение установилось в Соединенных Штатах. Что же до рынков, то, как и американская, российская промышленность обретет их внутри своей страны; особенно перспективны в этом отношении ее отдаленые и прилегающие регионы (Сибирь, Туркестан, Персия). Таким образом, Струве приветствовал как сам приход капитализма, так и меры правительства, направленные на его укоренение.
«Можно сколь угодно решительно осуждать протекционистские устремления России с точки зрения социальной политики, но существующая система отлично выполняет свою историческую миссию. Тем не менее со временем, когда сельское население России уменьшится с 80 процентов до 50 или 40, общинная земельная собственность потеряет сколь-нибудь значимую социополитическую роль, натуральное хозяйство потеряет всякую надежду на выживание, и нынешнее государство выйдет из сумрака, в котором оно все еще пребывает в нашу патриархальную эпоху (мы имеем в виду Россию), под яркий свет открытой классовой борьбы. Что же до обобществления производства, то тут придется поискать другие силы и факторы.
Снижение потребительских возможностей и ухудшение социальных условий жизни народа, объективно говоря, не являются аргументами против жизнеспособности российского капитализма. Но с другой стороны несомненно, что мы являемся свидетелями переходной ситуации. Поскольку, как я уже отмечал ранее на страницах этого журнала, «позитивные, созидательные последствия процесса капиталистического развития, заключающиеся в росте промышленности и рационализации сельского хозяйства, в России, как и повсюду, будут опережать негативные, деструктивные следствия этого процесса (пролетаризацию сельского населения и упадок мелкой промышленности)…». Вопреки противоположному мнению г-на Даниельсона… я не являюсь сторонником капитализма в единственно возможном понимании этого термина, и все же я убежден, что развитие капитализма, то есть экономический прогресс, создает главное условие для улучшения жизни большинства российского населения. И если кто-то противопоставляет реальный капитализм воображаемому экономическому порядку, который должен существовать лишь потому, что мы хотим этого — другими словами, когда кто-то желает обобществить производство без капитализма — то это свидетельствует о его наивных, антиисторических взглядах».
Вопросы, поднятые им в кратком полемическом обзоре книги Даниельсона, Струве развил в большей по объему и более наукообразной статье, написанной уже для теоретического журнала Брауна[167]. В этой статье он подробно разбирает многочисленные ошибки экономической аргументации Даниельсона и оспаривает его тезис о том, что рост капиталистической промышленности вынудил крестьян эксплуатировать свои земельные наделы в режиме истощения. В России, писал Струве, капитализм сформировался прежде всего как сельский, а не городской феномен: по значимости промышленный капитализм стоит на втором месте после сельского. В силу чего корни кризиса, поразившего сельское хозяйство, нужно искать в деревне, а именно — в ее перенаселенности. И уж если говорить о причинах российских бед, то ими являются недостаточная разграниченность промышленности и сельского хозяйства и низкий уровень разделения функций между городом и деревней. По мнению Струве, российская экономика должна была пойти по пути «дальнейшего развития общественного разделения труда; прогресса в сельском хозяйстве и связанного с ним становления экономически сильного крестьянства, приспособившегося к денежной экономике; пролетаризации значительной части сельского населения; укрепления связей между сельским и несельским населением к выгоде последнего; роста городов — короче говоря, используя широко известное выражение Фредерика Листа, этого герольда европейского капитализма, Россия будет ускоренно трансформироваться из «аграрного государства» в «аграрнопромышленное государство»