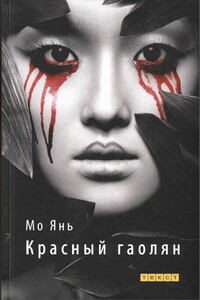За излучиной река стала шире. В окнах множества старинных теремов уже зажегся свет. Лодки одна за другой причаливали. Все эти помешавшиеся друг на друге парочки вереницей высыпали на берег и растворились на оживленных городских улицах, где очутился и следователь. Ему все казалось исторической подделкой. Люди на улицах были словно тени. От этой размытости тело и душа расслабились, и он уже не шагал, а будто плыл.
Двигаясь в людском потоке, он зашел в храм Матушки-чадоподательницы, где несколько красивых женщин стояли на коленях перед золотой статуей богини с розовым лицом и пунцовыми губами и отбивали земные поклоны. Все они опирались задом на каблуки своих туфель. Он долго и завороженно смотрел на эти острые каблуки, а в голове вертелись мысли о том, какие, должно быть, глубокие от них остаются вмятины. Спрятавшийся за колонной маленький бритоголовый буддийский монах стрелял по задранным задам из рогатки катышками грязи. При каждом попадании одна из коленопреклоненных дам взвизгивала. Монах при этом тут же складывал ладони, закрывал глаза и бубнил нараспев буддийскую молитву. Недоумевая, что у этого маленького монаха на уме, Дин Гоуэр подошел к нему и согнутым средним пальцем постучал ему по бритой голове. Монах взвизгнул девчоночьим голосом. Следователя тут же обступила целая толпа; его, как А-Кью, героя рассказа Лу Синя, стали обвинять в хулиганстве и в заигрывании с маленькой девочкой. Случившийся рядом полицейский схватил его за шиворот, выволок из храма и пинком вытолкнул из ворот на улицу. Растянувшись у ступеней храма, словно собака, дерущаяся из-за кучки дерьма, Дин Гоуэр обнаружил, что у него рассечена губа, шатается зуб, а во рту стоит тошнотворный привкус крови.
Потом он шел по горбатому мостику и видел, как поблескивает под ним вода, отражая огни фонарей, которые то разгорались, то угасали. По воде скользила большая лодка, с нее доносилась музыка и пение, словно это было ночное шествие небожителей.
Чуть позже он зашел в одно из питейных заведений. Вокруг стола сидело с десяток человек в широкополых шляпах, они пили вино и ели рыбу. От ударивших в нос ароматов у него аж слюнки потекли. Хотелось подойти и попросить поесть, но было неловко за свой внешний вид. Но голод не тетка: улучив момент, он лютым тигром метнулся к столу, схватил бутылку вина и рыбину и пустился наутек. Отбежав подальше, стал прислушиваться, не доносятся ли шум и крики.
Укрывшись в тени какой-то стены, он принялся за еду. Когда от рыбы остались лишь кости, он разжевал их и тоже проглотил. Вино выпил до капли.
Потом бродил вокруг, глядя, как поблескивают в воде мириады звезд и златокудрым мальчуганом прыгает по воде большая красная луна. Звуки веселья на воде раздавались все громче. Вглядевшись туда, откуда они доносились, он увидел большую расписную джонку для увеселений, которая мед ленно приближалась по течению реки. Джонка сияла огнями, на палубе под звуки пипа и шэна[207] пели и танцевали девушки в старинных одеждах. На столе, уставленном экзотическими яствами, было полно прекрасного вина, и с десяток разодетых мужчин и женщин играли в застольные игры на пальцах, раздавали наказы со штрафными чарками. Все — и мужчины, и женщины — уплетали еду с одинаковой жадностью — чай не прежние времена. Одна женщина, разинув огромный рот, уписывала всё подряд, как свиноматка, даже не поднимая головы. У смотревшего на все это Дин Гоуэра аж круги перед глазами поплыли. Джонка подошла ближе, уже были различимы черты пассажиров и слышно их смрадное дыхание. Следователь разглядел множество знакомых лиц: Цзинь Ганцзуань, шоферица, Юй Ичи, завотдела Ван, партсекретарь Ли… А одно лицо удивительно напоминало его самого. Похоже, его задушевные друзья, любовница и враги собрались вместе на этой людоедской вечеринке. Почему людоедской? Да потому что как завершающее блюдо снова внесли сидящего на большом позолоченном подносе истекающего маслом и распространяющего вокруг чудесный аромат пухленького мальчика с завораживающей улыбкой на лице.
«Сюда, любезный Дин Гоуэр, к нам давай…» — донесся нежный голос капризной, но миловидной шоферицы, и она, высоко подняв белоснежную ручку, несколько раз махнула ему. За ее спиной величественный Цзинь Ганцзуань склонился к миниатюрному Юй Ичи и что-то сказал ему на ухо. На лице Цзинь Ганцзуаня играла снисходительная улыбочка, а Юй Ичи понимающе осклабился.