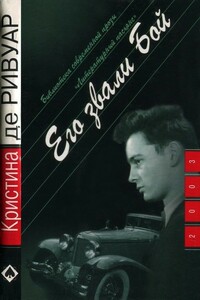Так и не закурив из-за
нахлынувшей тошноты, Прямой почувствовал, что уже не один, что рядом кто-то
есть. Почему-то ему совсем не хотелось выяснять, кто это, и даже смотреть в ту
сторону, но голова его сама повернулась, и ему ничего более не оставалось, как
взглянуть на неожиданного соседа. Тот сидел опустив голову и надвинув на глаза
темную широкополую шляпу. Поднятый воротник черного плаща полностью скрывал его
лицо. Но Прямой уже знал, кто перед ним; волны страха подступали, накатывали,
накрывали его с головой и перемешивали там все и вся, грозя сотворить сущую
кашу...
Совсем медленно, куда
медленнее той самой давешней выходки Прямого с пивной кружкой, незнакомец
сдвинул на затылок свою почти ковбойскую шляпу и повернул голову. “Да не носил
он никогда таких шляп”, — промелькнула у Прямого сумасшедшая мысль, а потом он
неожиданно для себя, растягивая слова, поздоровался:
— Здра-а-вствуй Па-а-вел
Ива-а-нович...
— Здравствуй, Сережа, —
Павел Иванович не мигая смотрел в упор на Прямого и неясно было: видит он
что-то или нет? — Ты — здравствуй! А мне уж поздно.
— Да что ты, Пал
Иванович, все ништяк, — также ровно продолжал Прямой, но на самом деле он уже
находился где-то на самой грани безумия. “Бред, полный бред. Чушь...” —
метались в голове мысли, как стая невесть откуда залетевших в комнату
ласточек... Да, это был Павел Иванович Глушков, собственной персоной. Он же —
Паша Крюк, мастер спорта по боксу, человек авторитетный и богатый, но... давно
и безнадежно мертвый, года три как... И это он, Сережа Прямой, застрелил его
тогда на берегу тихого лесного озера в глухом гдовском лесу. Из помпового ружья
в упор картечью он буквально разворотил его на части и,
упаковав в
полиэтиленовый пакет, утопил на самой глубине... И Павел Иванович пропал
навсегда, освободив место под солнцем для нужных людей, — как был уверен и сам
Прямой и, с его слов, нужные люди... Ан, нет! “Неужели выжил? Чушь! Быть не
может!”
— Правильно думаешь,
Сережа, — глухо сказал Павел Иванович, словно прочитав его мысли, — не может
быть, чтоб я выжил. Умер я тогда, действительно умер и угодил в самый что ни
есть ад. Вот так, Сережа. Ты еще и не знаешь об этом, а я уж вкусил все
положенные мне муки.
— Что? — прохрипел
Прямой и схватился за горло: ему показалось, что оно вдруг стало сплошь
деревянным и больше не пропускает воздух. — Что вы несете? Кто вы?
— Да брось ты, Сережа, —
Павел Иванович говорил без всяких эмоций, голос его был чуть отдален и звучал
как из старого репродуктора, — знаешь, знаешь ты, кто я. Знаешь и трепещешь! Но
не ведаешь ты, чего на самом деле следует трепетать! Эти муки, которые я несу —
они невыносимы, Сережа. От них нет спасения и облегчения. Они БЕС-КО-НЕЧ-НЫ!!!
— последнее Павел Иванович сказал вдруг возвысив голос и с такой мукой, что
Прямой затрясся и услышал, как тихо постукивают друг о дружку его зубы.
— Ты не знаешь этого,
Сережа! Но тем хуже для тебя, тем неожиданней и мучительней будет то, что
встретит тебя за гробом, а ведь это скоро, очень скоро — жизнь так мимолетна...
Ты знаешь, Сережа, тогда, когда тело мое погружалось в пучину, я медленно
поднимался над озером, с ужасом наблюдая, как исчезает в глубине то, что
недавно было мною самим — сильным, незнающим страха и жалости. Я не мог понять
того, что случилось. Я о чем-то кричал тебе, но ты не слышал. Ты суетился на
берегу, что-то прятал, закапывал. Ты суетился, Сережа, ты думал, что победил
меня, меня — такого сильного и всегда во всем тебя превосходящего, но ты не знал
главного, Сережа: нет никакой смерти, нет совсем — это вымысел бездарей и
недоучек, с подачи мрачного господина из преисподней, моего теперь господина,
да и твоего тоже. Так вот, я не понимал, Сережа, и — представляешь? — думал о
своем трехсотом “Мерседесе”, о баксах, вложенных там и сям в дела и, наверное,
потерянных теперь навсегда. Не верил я, что это со мною всерьез, не готов был
это принять и надеялся, что вот-вот открою глаза, проснусь и все вернется, но
нет... Я поднимался все выше и выше. Наверное, красиво было то, что оставалось
внизу, — ведь я, Сережа, в отличие от тебя, умел ценить красоту, — но в тот
момент мне уже было не до того. Представляешь, Сережа, я поднялся еще выше и
увидел, — нет, ты не поверишь, — я увидел демонов или по-нашему, по-русски —
бесов: гнусных отвратительно-безобразных, гомонящих что-то на варварском
птичьем наречье. И я забыл про все — про машины, дома, деньги, про женщин. Я
затрепетал, когда они потянули ко мне свои страшные черные лапы, я понял, что
перед ними бессилен, — понимаешь? — во сто крат больше бессилен, чем прежде
передо мной лох распоследний. Я бессилен и полностью в их власти. “Наш! Наш!
Наш!” — клокотали они радостно, и некому — понимаешь? — совсем некому было за
меня заступиться. Я почувствовал, я почти понял и поверил, что есть сила,
которая может меня спасти, но не знал, кого об этом просить. Я хотел вспомнить,
чье имя надо называть и не смог. Ты понимаешь? Я не смог вспомнить имя Того,
Кого мы на земле всуе поминаем почти ежечасно? Вот такая, Сережа, нам кара,
первая кара, а остальным мукам — несть числа... Для меня было одно снисхождение
и причиной ему — коварная, нежданная смерть от руки убийцы — от тебя, Сережа. В
этом была для меня милость, и я благодарен, Сережа, Господу за нее. Ведь без
снисхождений здесь, где я нахожусь, невозможно! Тебе этого не понять! Пока...
Так что я благодарен тебе и знай, что не сержусь.