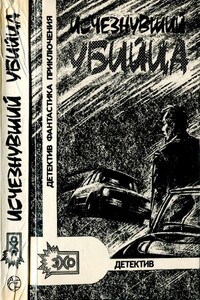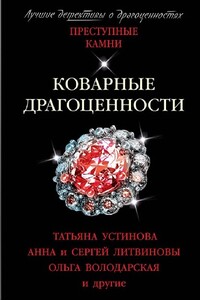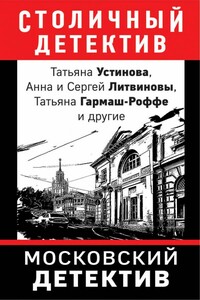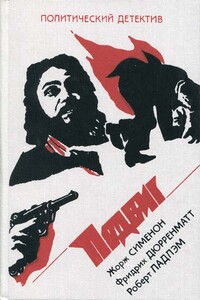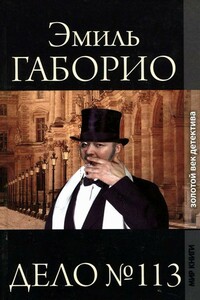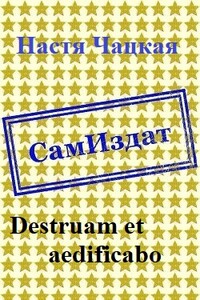— Это вы только так говорите, — произнес Боненблуст, и лицо его стало постепенно терять фиолетовый оттенок. — Питерлен наверняка прикончил директора. Об этом вся больница говорит…
— Кто, например?
— Да Вайраух, и Юцелер, и другие санитары из «П» и «Т» и «Б». А Юцелер сказал, я во всем виноват…
Так-так… Значит, такова версия здешних обитателей… Интересно…
Было похоже, что старый Боненблуст собирается заплакать. Глаза его увлажнились, лицо сморщилось, поехало вбок… Но потребность Штудера в плачущих мужчинах была на сегодня уже исчерпана, он не мог забыть блондина, там на кушетке, в кабинете доктора Ладунера…
— Почему именно вы виноваты?
— В тот вечер все было так же, как и в другие вечера. Питерлен плохо спал, а когда он неспокоен, он всегда выходит ко мне почитать газетку, вот здесь, за столиком…
Штудер увидел, что в выступе стены, на высоте головы стоящего человека, горела лампа под металлическим козырьком, направлявшим ее свет точно на столик. Вся остальная палата оставалась погруженной в синий полумрак.
— А потом?
— А потом он сказал, как почти каждый вечер до того: «Слушай, Боненблуст, выпусти меня в комнату отдыха, мне покурить хочется…» Он любил курить, Питерлен, а здесь, на посту, это запрещено. Ну тогда я выпустил его вон в ту дверь и огонька ему дал. А потом опять запер дверь. Он обычно стучал, когда накурится. Иногда он и две сигареты выкуривал, блуждая не спеша по залу. А вчера прогулка что-то затянулась. И я пошел посмотреть, а там уже никого не было…
— А шишка? — Штудер осклабился, сверкнув зубами.
— Я ударился, когда метался в темноте, не то об дверь, не то о выступ стены, я и сам не знаю. Мне ничего не стоило сочинить потом, что меня стукнули в соседней комнате, Шмокер ведь спал от сильного снотворного, я сам ему дал его в половине двенадцатого.
— А почему вы так долго никому ничего не рассказывали?
…Ночной санитар Боненблуст молчал от страха, боясь, что его уволят. Страх его был понятен, хотя и беспочвен. Свистящим шепотом — внутри у него так и сипело — он рассказал, что служит здесь вот уже без малого двадцать пять лет.
Работая только ночью, он был обеспечен лучше других санитаров, так как ему полностью выплачивали за стол, как-никак девятьсот франков в год, тогда как остальные, даже женатые, должны были питаться в больнице. Так что у него выходило чуть больше трехсот франков в месяц. За квартиру он не платил, потому что работал дворником в школе в Рандлингене.
И все ж…
Боненблуст относился к категории тех пуганых людей, которым когда-то пришлось несладко («Я начинал с шестидесяти франков в месяц, и у нас тогда было свободных в неделю только полдня… Мне на собственной шкуре довелось испытать, каково это, когда сынишка спрашивает у матери, кто тот чужой дядя, что иногда приходит к нам в гости») и которые боялись, что опять вернутся тяжелые времена. («Теперь, когда стало жить полегче, и у меня есть кое-что на книжке, десять тысяч франков, вахмистр…») — Наверняка больше! — («…Мне не хочется опять возвращаться к тому, что уже было…»)
Но при всем при том Боненблуст оставался человеком мягкосердечным, он не мог никому ни в чем отказать — Питерлену, например, — а сам жил в постоянном страхе перед нагоняем, потому что взыскание по службе было для него равносильно концу света.
Уже одно то, как он вдруг с испугом вскакивал и шептал: «Мне пора отмечать время!» — и втыкал при этих словах тоненький медный стерженек в отверстие на контрольных часах, потом поворачивал завод, раз-два, до пяти раз, тряс часы в руке, прикладывал их к уху, проверял, ходят ли они, а страх так и бегал в его глазах…
Мягкосердечный человек… Но так уж повелось спокон веков, когда одни люди стерегут других: невозможно воспрепятствовать установлению чисто человеческих отношений между охраной и охраняемыми — чтобы не говорили друг другу «ты», когда поблизости нет начальства, чтоб не помогали друг другу советом и делом, не передавали сигареты, шоколад. Так было и в Торберге, и в Вицвиле, и даже в самом полицейском управлении в Берне. Собственно, даже хорошо, что так оно есть, думал Штудер, сам он не был страстным поборником чрезмерных дисциплинарных правил. Ему ничего, например, не стоило купить осужденному пива в буфете на вокзале, перед тем как доставить его в тюрьму, вроде как подарить ему последнюю радость перед долгим одиночеством в камере.