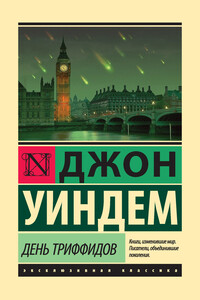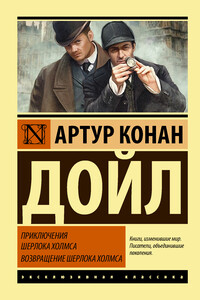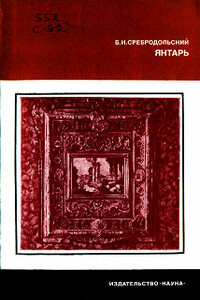Стереотип восприятия, согласно которому ученый лишь бесстрастно собирает факты и производит над ними логические вычисления, не менее карикатурен по отношению к людям науки, чем представление о поэте, как об убогом, нищем, болезненном существе, которое периодически испытывает приступы стихотворной лихорадки.
Первенство
Те, кому не терпится дискредитировать ученых – прежде всего потому, что они якобы (сами ученые так не считают) поглощены исключительно бесстрастным теоретизированием в поисках истины, – очень часто рассуждают об озабоченности ученого люда вопросами приоритета, то есть одержимости стремлением доказать собственное первенство в том или ином открытии.
Порой можно услышать, что эта одержимость возникла сравнительно недавно, как естественное следствие желания ученого как-то выделиться в современном высококонкурентном мире, где очень тесно, но на самом деле ее вряд ли можно признать новой: исследования доктора Роберта К. Мертона и его коллег[55] убедительно доказали, что споры по поводу приоритетов, иногда чрезвычайно ожесточенные и бескомпромиссные, начались буквально с появлением науки как таковой. Они естественным образом вытекают из того обстоятельства, что несколько ученых, как правило, одновременно бьются над какой-либо научной загадкой и находят на нее ответ (возможно, единственный).
Там, где решение действительно является единственным – скажем, применительно к кристаллической структуре ДНК, – конкуренция и вправду обостряется до предела. Полагаю, люди искусства посмеиваются над озабоченностью ученых своими заслугами, но положение дел в этих двух мирах не подлежит сравнению. Вообразим, что сразу нескольким поэтам или музыкантам предложили сочинить патриотическую оду или хвалебную песнь; разумеется, любой из них будет вне себя от ярости, если его творение припишут кому-то другому. Однако подобные проблемы, стоящие перед людьми искусства, не сводятся к единственному решению: чтобы два поэта независимо друг от друга составили одинаковую строфу, а два музыканта сочинили одинаковые мелодии – это вряд ли возможно чисто статистически, и, как я уже указывал в ином контексте, двадцать лет, потраченных Вагнером на сочинение первых трех опер из цикла «Кольцо нибелунга», отнюдь не омрачал страх того, что кто-то раньше него поведает миру о Gotterdammerung[56].
Когда гордость, связанная с обладанием чем-либо (особенно при обсуждении права на владение идеей), становится важным фактором, большинство людей безусловно подвержено стремлению защитить свою собственность. Репортер будет отстаивать плоды своего журналистского расследования, философ и историк – то новое, что они внесли в изучение какого-то вопроса, администратор – свой способ распорядиться доступными средствами или перераспределить ответственность в непростой ситуации; все они будут считать, что исходная идея принадлежит им, что окружающие должны с этим согласиться. На мой взгляд, к слову, обеспокоенность приоритетом проявляется во всех областях человеческой жизни и во всех сферах деятельности. Иногда – например, у автомобильных дизайнеров и кутюрье – борьба за первенство и желание его отстоять диктуются необходимостью зарабатывать на жизнь, но иногда она превращается в агрессивное невежество: мне говорили, что фельдмаршал Монтгомери Аламейнский[57] настойчиво требовал признания своих заслуг – даже когда к тому не было никаких оснований.
В науке вопросы приоритета видятся более насущными потому, что научные идеи постепенно становятся общественным достоянием, а значит, единственное обладание, каким располагает ученый, – это осознание собственного первенства в каком-то открытии, осознание того, что ты первым нашел решение (быть может, единственное), опередив всех остальных. Лично я не вижу ничего дурного в гордости за обладание, пускай в научном контексте, да и во всех прочих; собственничество, секретничанье, увертливость и эгоистичность сполна заслуживают порицания. Следовательно, насмешки над учеными, которые гордятся своим приоритетом, лишь демонстрируют прискорбный недостаток понимания.