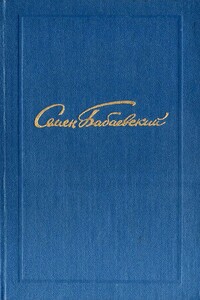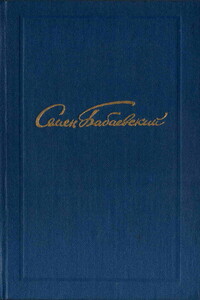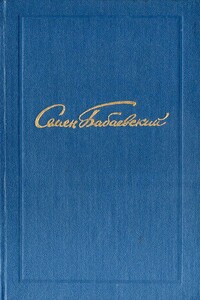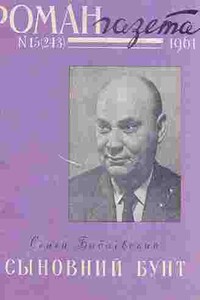— Спят… Рано еще.
— Я не об этом. Объяснили тебе, чего ради заявились? Кто улетает в город, а эти прилетели из города. Надолго?
— Эльвира сказала, что насовсем, — ответила Анна. — Их привез сам Барсуков, квартиру обещал, — с гордостью добавила она. — Барсуков разыскал их в Степновске и сказал: станица у нас людная, а постричься, побриться, или женщинам сделать прическу негде. По этой причине в Доме быта открывается салон красоты.
— Салон красоты в Холмогорской? — Василий Максимович усмехнулся. — Ну и выдумщик же этот Мишка Барсуков!
И пошел через огород, по протоптанной стежке. Над Кубанью брезжил рассвет, далеко на чистом небе проступали слабые контуры Кавказских гор, далеко от реки карагачевые заросли поднимались темными кущами, на воде, предвещая хорошую погоду, стлался реденький, почти невидимый туман. Вода прибыла еще больше, так что колышка, к которому была привязана лодчонка, уже не было видно. Василий Максимович спустился по ступенькам, засучил рукава и с трудом отыскал в воде цепь, отвязал ее и с ходу шагнул в качнувшуюся лодчонку. Веслом толкнул о берег, и лодчонка, кружась и подплясывая, понеслась по реке. Наклоняясь то в одну, то в другую сторону, он направлял лодку через стремнину и вскоре причалил к вербе с кривым стволом. Верба стояла так глубоко в воде, что ее ветки цеплялись о лодку. Положив весло, Василий Максимович присел, закурил, прислушиваясь к шороху тершейся о вербу лодки. Курил, смотрел на реку, а перед глазами стоял Степан со своей беспечной улыбкой. «Может, мать права, нечего мне болеть душой, — думал он. — Степан не ночевал дома? Ну и что? Дело известное, молодеческое. А то, что потянулся не к земле, а к газете, тоже не моя вина. Вот непонятно, почему Эльвира заявилась домой да еще и в штанах, будто какой кавалерист. Городская, что тут скажешь. Муженек у нее тоже из тех, из патлатых, похожий на молоденького дьячка. Знать, приехали открывать в станице салон красоты. Вот она, какая пошла жизнюшка, в казачьей станице — салон красоты»…
Василий Максимович бросил окурок, опять до локтей засучил рукава и погрузил в воду волосатые, жилистые руки. Нащупал привязанную к вербе веревку, потянул ее, чувствуя, как что-то тяжелое отрывается от илистого дна. Всплыла, чернея ребристой спиной, верша, раздался всплеск и знакомый, холодящий душу треск рыбы, заплескалась вода. Он поднял вершу в лодку, открыл дверку. Рыбу брал осторожно, чтобы не выскользнула из рук, и клал в цибарку с водой. «Хорош сегодня улов, — думал он. — Сколько раз примечал: усачи и голавли завсегда идут в вершу, когда Кубань в разливе и когда вербы купаются в воде»…
Пока он подплывал к другим вербам и поднимал еще две верши, пока вынимал рыбу и привязывал новые куски жмыха, тем временем за лесом уже встало солнце, и его лучи, пробившись сквозь верхушки деревьев, вмиг точно бы слизнули туман и заполыхали на воде, а горы посветлели и, казалось, подошли поближе к реке. Солнцем были залиты и станица, и лес, и встававшие за лесом, теперь уж близкие горы. Солнечное утро, тишина, разлив реки, на редкость удачный улов, — казалось бы, чего же еще нужно? Идти бы Василию Максимовичу домой да радоваться. А он, сидя в лодке, снова закурил и, хмуря нависшие брови, мял в кулаке жесткие усы, думал. Опять мысленно подходил то к сыну, то к дочке, спрашивал, разговаривал. Старшему, Максиму, названному в честь деда, сказал: «Максимушка, ты уже тот ломоть, что раньше всех был отрезан, у тебя уже взрослые свои сын и дочка, о тебе можно и не печалиться. Ты, Максим Васильевич, как твой дед и как твой батько, полюбил железо, стал токарем — хорошо, хвалю». Вспомнились слова Максима: «С меня, батя, и с таких, как я, зачинается наш колхозный рабочий класс». «А что? Верно сказано. Рассуждает Максим толково, умно, за станком стоит исправно, дело свое знает, и заработок у него высокий. Ничего, что не стал трактористом, все одно дело имеет с техникой»…
От Максима, как по лесенке, спустился к Дарье. Как и Максим, Дарья родилась еще до войны. Жила она через двор. Свой дом, своя семья, две дочки-школьницы. Была у Дарьи работа необычная — заведовала лабораторией на молочном заводе. Отец считал Дарью ученой, потому что она умела как-то по-особенному разливать по колбочкам молоко, знала, как и что измерять и как записывать. «Сорок шесть годков я езжу на тракторе, — как-то говорил он дочке. — Даша, знала бы ты, сколько я вспахал земли и сколько посеял на ней пшеницы, — необъятное море! И что нынче, на старости лет, меня сильно печалит? Переводятся в роду Бегловых хлебопашцы. Беру в пример тебя, Даша. Дочь пахаря, а кто ты есть? Горожанка, ученая. А чего ждать от твоих детей, а моих внуков? А Михайло Тимофеевич Барсуков на собраниях частенько говорит: „Нам нужен хлеб!“ И правильно, нужен… А хлеб-то взращивают люди»…