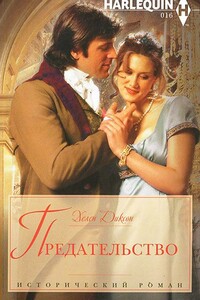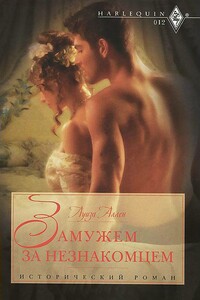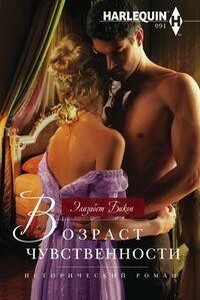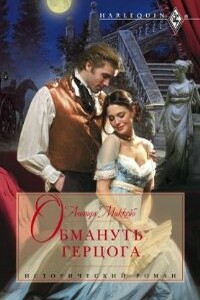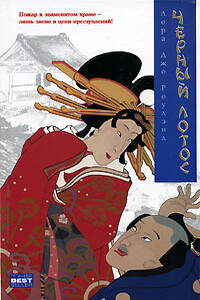Браун посмотрел в глаза Заборски — они были пустыми и безжизненными. Граф ничем не показал, что узнал его, пока не вытащил мундштук изо рта и не прошептал:
— Как ваша рука, Браун?
Браун улыбнулся и поднял ее. Она была все еще забинтована.
Граф одобрительно кивнул. Браун не понял, что порадовало его: качество повязки или то, что рана еще не зажила. Он вытащил портсигар с шестью самокрутками. Бледно-желтая оберточная бумага была того же цвета, что и табак, обрезки листьев которого торчали с обеих сторон сигарет.
— Что за девушка у тебя была? — спросил граф.
— Фелка, — ответил Браун, заправляя выпадающие табачные листья.
— Новенькая?
— Да.
— Хороша?
— Очень старательная.
Граф вдохнул и закрыл глаза.
— Эта ведьма Матейка не дает мне ее.
— Почему?
— Она считает, что я слишком грубый.
— Честно говоря, я склонен с ней согласиться.
Глаза графа медленно открылись, и уголки губ поползли вверх.
— Насколько я понимаю, вы слышали о Хёльдерлине? — спросил Браун, закуривая, наконец, сигарету.
— Конечно.
— Похоже, я должен перед вами извиниться.
Заборски вяло изобразил благословение скрещенными пальцами, а потом долго и устало выдохнул. Он снова затянулся кальяном и, после продолжительного молчания, спросил:
— Вы были любовником фройляйн Лёвенштайн?
Браун коротко утвердительно кивнул.
— И сообщником? — добавил Заборски.
Браун снова кивнул, его тело немного сползло с дивана.
— Но эти дети были не ваши?
— Нет, не мои.
Граф соединил пальцы так, что его ладони образовали купол. Он носил столько колец, что казалось, будто он магическим образом сотворил сферу из драгоценностей. В большом изумруде отразился свет, и камень засиял зеленоватым блеском.
— Хёльдерлин, — сказал граф. — Управляющий банком. Преданный муж! — Он начал смеяться, но его резкий, похожий на лай смех неожиданно оборвался. — Кто бы мог подумать?
Их спящий сосед вдруг рыгнул и сел прямо и стал оглядывать комнату таким взглядом, будто ему снился кошмар, а, проснувшись, он очутился в самом нижнем круге ада.
Либерман взял письмо и откинулся на спинку кресла, положив голову на салфетку в изголовье.
«Дорогая Амелия, я знаю, что он с вами сделал. Вы не были первой, и я знаю, что не будете последней. Мне очень жаль. Простите меня. Я должна была что-то предпринять, но у меня не хватило на это смелости. Беатриса».
— Когда пришло это письмо? — спросил Либерман.
— В четверг, — ответила мисс Лидгейт.
Некоторое время они молчали. На улице начал звонить церковный колокол, приближался вечер.
— Это такая трагедия, — сказала Амелия Лидгейт. — Особенно для детей.
— Да, это верно, — сказал Либерман. — Интересно, как министр Шеллинг поступит с ними?
— Эдвард и Адель обожают свою тетю Мари. Надеюсь, он догадается обратиться к ней за помощью. Она бездетная вдова и будет любить детей как своих собственных, я уверена в этом.
Мисс Лидгейт встала, взяла коробок спичек с каминной полки и зажгла газовую лампу.
— Но что вы сами чувствуете, мисс Лидгейт? Относительно фрау Шеллинг? Ее смерть — это, конечно, страшная трагедия, но это — Либерман помахал письмом, — также и ужасное признание.
Молодая женщина села и посмотрела прямо в глаза Либерману. В свете газовой лампы металлический оттенок ее глаз превратился в прозрачно-голубой.
— Мне жаль ее, доктор Либерман. Храня молчание, она автоматически становилась сообщницей своего мужа, но что она могла сделать? Если бы фрау Шеллинг подала на развод, она столкнулась бы с резким осуждением общества. И католическая церковь известна своим отнюдь не либеральным отношением к разрыву брачных уз. На Эдварда и Адель легло бы пятно позора, пострадала бы политическая карьера господина Шеллинга, что, в свою очередь, повлияло бы на финансовое благополучие детей. Кроме того, жалобы и недовольство фрау Шеллинг могли быть неправильно истолкованы, их могли принять за симптомы душевной болезни. Я думаю, что если бы случился конфликт, она бы начала повышать голос, взволнованно говорить, отчаянно жестикулировать… И что тогда? — Амелия Лидгейт грустно улыбнулась. — Многие, особенно ваши коллеги, герр доктор, связывают такое неженское поведение с расстройством рассудка. Фрау Шеллинг могли запереть в Общей больнице или даже в «Ам Штайнхоф». То, что делает герр Шеллинг, отвратительно, но я не наивный ребенок, доктор Либерман. Герр Шеллинг не один такой в этом городе, как и в любой другой европейской столице; и женщин, которые находятся в их власти и молча страдают, тоже очень много.