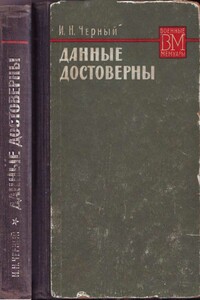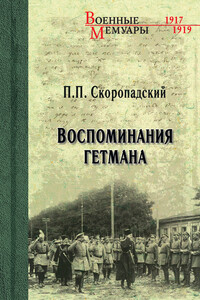Чтобы попасть к англичанам, капиталу Куропаткину надо было обойти линию фронта, сделав солидный крюк по тайге. Целую неделю ходил он по лесу, заблудился, но тропы так и не нашел. Голодный, обросший, едва держась на ногах, лейб-гвардеец набрел наконец на мужиков-смолокуров и признался им, кто он такой. «И так и этак мне смерть, — сказал Куропаткин. — Не убивайте меня, ведите в ЧК, я ценный для них человек». Примерно так рассказал нам крестьянин Иван Остапин, который привел незадачливого шпиона в ЧК в деревню Каменный Прилук. Мы посмеялись. Однако капитан действительно оказался ценной находкой. После допроса его срочно отправили в Москву. А спустя некоторое время благодаря сведениям, которые Куропаткин сообщил ВЧК, в Питере была раскрыта крупная подпольная офицерская организация.
Второго вражеского лазутчика довелось брать мне самому, причем в моей родной деревне Вторая Борисовка. Им оказался крестьянин Григорий Шумков.
Никто в моей деревне, конечно, и не догадывался, что я работаю в ЧК. Появлялся я там в гражданской одежде, наган носил в кармане.
Шумкова я знал давно. Это был плотный, лысый, еще не старый мужичок с окладистой бородой. Они с братом вели торговлю лесом, жили хорошо, всего вдосталь. Да, видно, слишком жаден был Шумков. Жадность и сгубила: купили его интервенты. И стал он под видом торговых сделок ходить через линию фронта: то на нашу сторону, то в деревню, где стояли англичане. Пройдет позиции 1-го Вологодского полка, приметит, где что, какие силы, огневые точки, и все эти сведения противнику несет.
После ареста Шумков признался, что англичане за эти сведения всякий раз давали ему по тысяче рублей. Шпиона приговорили к расстрелу. И крестьяне, надо сказать, одобрили этот строгий приговор.
Однажды к командиру 2-го Вологодского полка пришла красивая молодая женщина и попросила принять ее на работу в качестве телефонистки. По документам фамилия ее была Викторова, жительница деревни Заблудье. Подозрений женщина не вызывала, и ее направили в штаб телефонисткой.
Но в это время к нам на пароход «Светлана» приплыл на лодке Иван Копылов и сказал, что у него есть секретное сообщение. В разговоре с Копыловым выяснилось, что накануне он видел трех незнакомцев у реки Кодима: двух мужчин и молодую женщину. Копылова никто не заметил, и он, крадучись, пошел следом. Он видел, как мужчины затаились в кустах, а женщина, обойдя передовые красноармейские посты, пропала из виду. После этого ее провожатые повернули назад и двинулись лесом в сторону английских позиций.
Я спросил, как выглядела женщина и сумеет ли Копылов опознать ее. Когда он описал внешность незнакомки, возникло подозрение, что речь идет о той самой девице, которую только что приняли в штаб телефонисткой. Копылову показали Викторову, и он без труда опознал ее…
Зима в Приполярье приходит рано и внезапно. С наступлением заморозков наша ЧК перебазировалась со «Светланы» на берег: по Двине шла шуга, начинался ледостав. В эту пору пришло распоряжение о слиянии Архангельской и Северодвинской ЧК, поскольку мы уже находились на территории Северодвинской губернии. Выполняя указания центра, наши работники переехали в Великий Устюг.
Осенняя распутица приостановила боевые действия на фронте. Весь октябрь, пока шли дожди вперемежку с мокрым снегом и на Двине становился лед, мы почти не имели связи с деревнями. Лишь изредка ребята из оперативного отдела с большим трудом добирались до позиций Вологодской дивизии, знакомились там с обстановкой, навещали уполномоченных в ближайших селах.
В конце октября нашего начальника Педу отозвали в Москву. А спустя некоторое время туда же на работу уехали еще несколько архангельских чекистов, в том числе и я.
Однако еще до отъезда мы провели очень важную операцию по розыску и конфискации хлебных излишков в Великом Устюге.
Особое значение этой операции станет понятным, если учесть сложившуюся в ту пору критическую обстановку. Колчак взял город Глазов и подошел к Вятке, угрожая перерезать железную дорогу Москва — Вятка. Удайся ему сделать это, мы лишились бы возможности снабжать свои войска хлебом. Мало того, весь советский Север был бы обречен на голодную смерть, так как своего хлеба здесь не было.