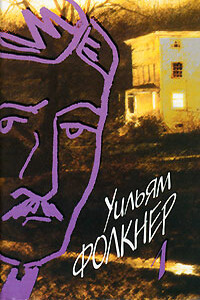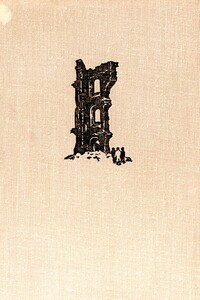Шум и ярость - страница 5
В процессе работы Фолкнер осознал символику «запачканных штанишек», и картина маленькой девочки на груше дополнилась иной: затравленной, потерявшей отца и мать девушки, которая, спустившись по дереву из окна, бежит из дома, где она не находит ни понимания, ни сочувствия, ни любви. Так в романе не только появилась Квентина, но и сложился образ, обозначивший «трагедию двух падших женщин, Кэдди и ее дочери»[8], как определил Фолкнер тему книги. Если вспомнить тот непомерный культ неприступной и одновременно общительной «прекрасной дамы-южанки», издавна царивший в среде рабовладельческой аристократии, если учесть также замечание Фолкнера, что книга «должна была стать повестью о том, как на кровь нашла порча»[9], то авторское определение темы не покажется чересчур узким.
Говоря о «Шуме и ярости» как о романе потока сознания, никак нельзя упускать из виду, что этот термин весьма условен и даже заслоняет существенные различия характеров, особенности их мировосприятия. Три «компсоновских» части книги демонстрируют три типа сознания: неразвитое, наивное, непосредственное доречевое сознание Бенджи, неспособного к сколько-нибудь логичному мышлению; романтико-метафизическое, отягощенное онтологическими и этическими категориями (бытие, время, честь, грех) сознание Квентина и прагматическое, вульгарное, устремленное единственно к удовлетворению собственного интереса сознание Джейсона.
Соответственно часть, отданная Бенджи, представляет собой вереницу картин, то более или менее подробных, широких, то коротких, отрывочных, как вспышки молнии, возникающих чуть ли не на уровне ощущений и фотографически фиксирующих окружающих, их разговоры, физический облик предметов, запахи, цвета, формы чувственного мира. Проблески его памяти то и дело выхватывают из прошлого голоса, движения, образы, но поскольку время для Бенджи утратило свою протяженность, все они Сходятся в единое «здесь» и «сейчас».
Говорят, что самые яркие впечатления — это впечатления детства. Чаще всего проблески памяти Бенджи переносят нас к моменту смерти бабушки, в тот день в 1898 году, точнее вечер, когда детей ведут ужинать в кухню и не велят шуметь, и они видят озабоченного отца, слышат плач матери в комнатах и чувствуют, что в доме поселилось несчастье. В совокупности эти полтора-два десятка ретроспекций (из шестидесяти с небольшим) и составляют тот первоначально задуманный бесхитростно-поэтичный и щемящий душу рассказ о детях, которые со своими простодушными шалостями и ссорами, заботами и забавами оказываются на пороге непонятного, почти чуждого трагифарсового мира взрослых, где мирно сосуществуют добро и зло, бесшумно кипят необузданные страсти, невидимо разыгрываются спектакли эгоизма и вины, и они почище тех представлений, что покажут в Джефферсоне заезжие циркачи на пасху, потому что люди, как учил своих повзрослевших детей старый Компсон, «всего-навсего труха, куклы, набитые опилками, сметенными с мусорных куч, где все прежние куклы валяются и опилки сыплются из ничьей раны, ни в каком боку…»
Сбивчивая цепь картин-воспоминаний Бенджи — это и цепь утрат, которые выпали на долю этого несчастного, беспомощного существа. Умственно неполноценный От рождения, он в пятилетием возрасте лишается имени (а «имена менять — счастья не будет» — изрекает многомудрая негритянка Дилси), он слышит, как Кэдди, его прочнейшая привязанность и защита, пахнет уже не деревьями, а духами, тревожно ищет ее убегающие глаза, а после свадьбы — ее самое, видит, как исчезают и не возвращаются бабушка, Квентин, отец — «он все три раза чуял, когда их время приходило». И чем чаще и горше утраты, тем отчаяннее Бенджи тянется к людям, не к домашним — им уже не до него, — а к игрокам в гольф, к школьницам, проходящим мимо калитки, где он, плача, напрасно высматривает уехавшую Кэдди. Забор, вдоль которого взад и вперед, точно в загоне, с воем бегает Бенджи, и его немота — два высоких символа трагически необратимой отгороженности от мира. Как князь Мышкин у Достоевского «мучился глухо и немо» от того, что «один он… ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш», так и фолкнеровский идиот пытается выразить себя и — не может: «Я сказать хочу, но они уходят, я иду забором и хочу сказать, а они все быстрей. Вот бегом уже, а забор кончился, мне дальше некуда идти, я держусь за забор, смотрю вслед и хочу выговорить».