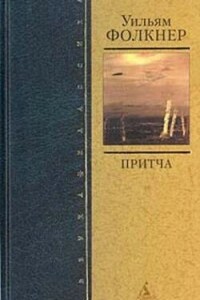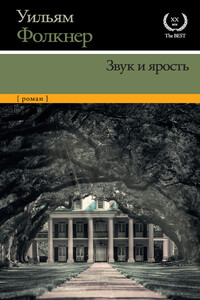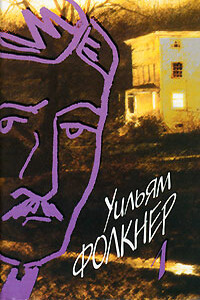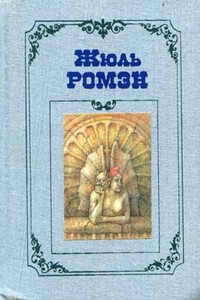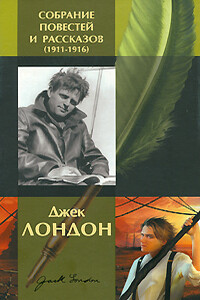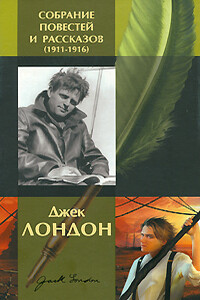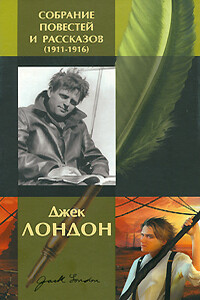Само собой, цену многих намеков, мелких подробностей, случайных вроде бы реплик в его монологизированной прозе улавливаешь не сразу. Они начинают «играть» позднее, по мере того как, вживаясь в затрудненную структуру романа, постепенно постигаешь содержание и смысл характеров Фолкнера и их взаимоотношений. Это относится и к потоку впечатлений Бенджи, и особенно ко второй части «Шума и ярости», к внутреннему монологу Квентина, отражающему его интеллектуальный уровень, образованность, эмоциональный опыт.
Американские литературоведы составили детальную хронологию происходящего в романе, выявили и подробно описали все временные смещения, соотнесли с определенным периодом или случаем каждую темную фразу. Полезное с исследовательской точки зрения, подобное разъятие вряд ли помогает целостному восприятию романа во всей его многозначности. Как в импрессионистской живописи, общее впечатление здесь складывается лишь на отдалении, не от буквального значения отдельных «мазков» прозы, а от их суммы связей, сочетаний.
Структура романа отражает стоическую тяжбу со временем, которую вел Фолкнер на всех, так сказать, уровнях — философском, историческом, языковом.
Категория времени вообще неразрывно связана с природой художественного творчества. Нет, пожалуй, ни одного крупного писателя, который не пытался бы «остановить мгновение», уловить в преходящем что-то неподвластное времени, и Фолкнер не составляет исключения. Само произведение искусства в известном смысле есть застывший сколок с движущейся действительности.
Двадцатый век особенно обострил чувство времени и распространил даже среди больших талантов представление о человеческом существовании как об «утраченном времени», нашедшее наглядное выражение в цикле романов Пруста. Писатели-модернисты единственным врагом человека стали считать время, чей безостановочный поток разлагает, уносит прочь все стремления, усилия, надежды, — отсюда, в частности, развилась современная философия абсурда, бессмысленности жизни личности как чего-то конечного в универсальном бесконечном.
Мысли о том, что человеку не дано вырваться из заключения во времени, возникают и в воспаленном сознании Квентина, не уберегшего фамильной чести и оттого решившегося на самоубийство. Ему приходят на память и высказывание отца о том, что «человек — это совокупность его бед. Приходит день — и думаешь, что беды уже устали стрясаться, но тут-то… бедой твоей становится само время», и ужасающее ощущение того, что решительно все на свете проходит, все временно, все бренно, и «успокоительнейшие» начала языка: Non fui. Sum. Fui. Non sum — то есть: я «Не был. Есть. Был. Не есть», то есть простейшая формула цикла индивидуального бытия, с обеих сторон замкнутая отрицанием.
И все же Фолкнеру гораздо ближе его «собственная теория», согласно которой «время — это текучее состояние, не существующее иначе, как воплощаясь в отдельных людей. Нет никакого «было», только «есть». Если бы существовало «было», мы не ведали бы горестей и печали…»[3] «Никто не может быть сам по себе, человек — сумма своего прошлого. На самом деле не существует такой вещи, как «было», потому что прошлое — есть. Оно часть всякого мужчины, всякой женщины, всякого момента»>[4]. Это означает, что каждый человек является продолжением чего-то, каждый аккумулирует в себе весь личный и доступный внешний опыт, за каждым стоит история. Подвижность и взаимопроникновение понятий «есть» — «было» у Фолкнера и обусловило наивысшую степень свободы перемещения людей и событий во времени и, между прочим, усложненность фолкнеровской фразы, стремящейся вобрать все пласты времени в один момент.
Строго говоря, «есть» не существует и без того, что грядет, настоящего нет без будущего. Здесь — одно из наиболее уязвимых мест художественной концепции романа. Хотя само сознание есть движение и его природа требует проецирования в будущее, в восприятии мира персонажами Фолкнера отсутствует «молчаливая сила возможного», если воспользоваться выражением Хейдеггера. Захлестываемые чередой дней и роковых обстоятельств, они трагически не способны задаться вопросом: как жить дальше? Ни у кого из Компсонов в прямом и переносном смысле нет будущего — даже у Джейсона, который настолько озабочен своими махинациями, что тоже превратился в раба времени. Отсюда и возникает предельная сосредоточенность фолкнеровских героев на прошлом, а «за ними поспешает, пытаясь зафиксировать, что они говорят и делают»