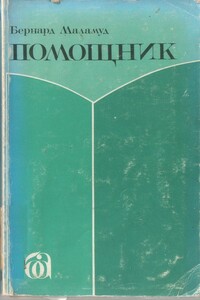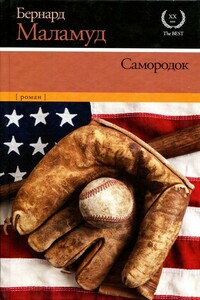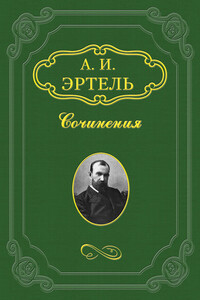Летом, когда торговля у него обычно шла получше, торговля шла плохо; осенью — и того хуже. Такая тишина поселилась в лавке, что когда кто-нибудь открывал дверь, душа изнывала от блаженства. Долгие часы просиживали они под голой лампочкой в глубине лавки, читая и перечитывая газету, с надеждой отрываясь от нее, когда кто-нибудь на улице проходил мимо, но старательно отводя глаза, когда понятно становилось, что идут не к ним, а к соседям. Сэм теперь запирал на час позже, в двенадцать ночи, отчего сильно уставал, но зато в этот лишний час ему перепадал то доллар, а то и два от хозяек, у которых вышло все молоко или в последнюю минуту обнаружилось, что в доме нет хлеба на бутерброд ребенку в школу. Чтобы урезать расходы, он убрал один из двух светильников с витрины и один из плафонов в лавке. Он снял телефон, закупал бумажные пакеты у лоточников, брился через день и, хотя ни за что бы в том не признался, меньше ел. Вдруг в неожиданном приливе оптимизма заказал на оптовом складе восемнадцать ящиков товара и заполнил пустующие отделения на полках, броско обозначив низкие цены, — только, как говорила Сура, кому им бросаться в глаза, если никто не приходит? Люди, которых он на протяжении десяти, пятнадцати, даже двадцати лет видел каждый день, исчезли, как будто переехали жить в другой район или поумирали. Иногда, торопясь доставить на дом небольшой заказ, он встречал кого-нибудь из бывших покупателей, и тот поспешно переходил на другую сторону, а нет, так круто поворачивал назад и шел в обход квартала. Парикмахер тоже его избегал, да он и сам избегал парикмахера. Зрел втайне замысел обвешивать покупателей на развесных товарах, но не хватало духу. Явилась мысль ходить по квартирам и собирать заказы, которые он будет сам же доставлять, но потом вспомнился мистер Пеллегрино, и мысль отпала. Сура, которая всю их совместную жизнь пилила его без устали, теперь сидела в задней комнате и молчала. Когда Сэм подсчитал приход за первую неделю декабря, он понял, что надеяться больше не на что. За стеной гулял ветер, и в лавке было холодно. Он объявил, что продает ее, но желающих купить не находилось.
Как-то утром Сура встала и не торопясь в кровь расцарапала себе ногтями щеки. Сэм перешел через улицу и велел, чтобы его постригли. Прежде он ходил стричься раз в месяц, но сейчас, за десять недель, волосы отросли и покрывали шею сзади, словно толстая шкура. Парикмахер их стриг с зажмуренными глазами. Потом Сэм вызвал аукциониста, и тот прибыл с двумя бойкими помощниками и красным аукционным флагом, который бился и хлопал на ледяном ветру, точно в праздник. Они не выручили и четверти тех денег, которые надо было заплатить кредиторам. Сэм с Сурой заперли помещение и уехали. До конца жизни ни разу больше не побывал он в старом районе, опасаясь, что лавка так и стоит пустая: ему жутко было заглянуть в окно.
В могилу свели (Перевод М. Кан)
Маркус портняжничал издавна, с довоенной поры — легкого характера человек с копной седеющих волос, хорошими, чуткими бровями и добрыми руками, — и завел торговлю мужской одеждой в относительно пожилые годы. Достаток, как говорится, стоил ему здоровья, пришлось поэтому посадить себе в помощь, на переделку, портного в задней комнате, но с глажкой, когда работы набиралось невпроворот, он не справлялся, так что понадобилось еще нанимать гладильщика, и оттого хотя дела в лавке шли прилично, но могли бы идти и лучше.
Они могли бы идти гораздо лучше, если б гладильщик, Йосип Брузак, грузный, налитой пивом, потливый поляк, работавший в исподней рубахе и войлочных шлепанцах, в штанах, съезжающих с могучих бедер и набегающих гармошкой на щиколотки, не воспылал ярой неприязнью к портному, Эмилио Визо — или это произошло в обратном порядке, Маркус точно не знал, — сухому, тощему сицилийцу с куриной грудью, который, то ли в отместку, то ли еще почему, платил поляку неистребимой злобой. Из-за их стычек страдало дело.
Отчего они так враждовали, шипя и пыжась, точно драчливые петухи, и не стесняясь к тому же в выражениях, употребляя черные, неприличные слова, так что клиенты обижались, а у Маркуса от неловкости порой до дурноты мутилось в голове, было загадкой для торговца, который знал их невзгоды и видел, что по-человечески они во многом похожи. Брузак, который обитал в меблированной трущобе неподалеку от Ист-Ривер, за работой насасывался пивом и постоянно держал полдюжины бутылок в ржавой кастрюле со льдом. Маркус вначале возражал, и Йосип, неизменно уважительный к хозяину, убрав кастрюлю, стал исчезать с черного хода в пивную на углу, где пропускал свою кружку, теряя на этой процедуре такое количество драгоценного времени, что Маркусу оказалось выгоднее вернуть его назад к кастрюле. Ежедневно в обеденный перерыв Йосип доставал из стола острый маленький нож и, отрезая толстыми кусками твердокопченую чесночную колбасу, поедал ее с пухлыми ломтями белого хлеба, запивая все это пивом, а напоследок — черным кофе, который он варил на одноконфорочной газовой плитке для портновского утюга. Иногда он готовил себе жидкую похлебку с капустой, которой прованивал насквозь все помещение, но вообще ни колбаса, ни капуста его не занимали и он ходил целыми днями понурый, озабоченный, покуда, обыкновенно на третьей неделе, почтальон не приносил ему письмо из-за океана. Когда приходили письма, он, случалось, разрывал их пополам нетерпеливыми пальцами; забыв о работе, он усаживался на стул без спинки и выуживал из того же ящика, где хранилась колбаса, треснувшие очки, цепляя их за уши при помощи веревочных петель, привязанных вместо сломанных дужек. Потом читал зажатые в кулаке листки дрянной бумаги, неразборчивые польские каракули, выведенные блекло-бурыми чернилами, — слово за словом, вслух, так что Маркус, который понимал по-польски, но предпочел бы не слышать, слышал. Уже на второй фразе у гладильщика искажалось лицо, и он плакал, размазывая слезы по щекам и подбородку, и это выглядело так, словно его опрыскали средством от мух. Под конец он разражался надрывными рыданиями — ужасная картина, — после чего часами ни на что не годился, и утро шло насмарку.