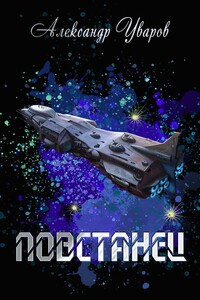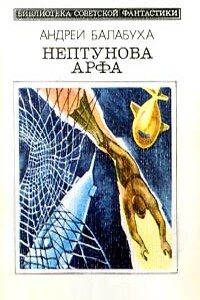— Диагноз ясен!
Голос подвального врача стал вдруг звонким и чистым, слова он бросал отрывисто и быстро, будто входил в особое, самому ему неподвластное состояние и потому боялся утратить контроль за собственной речью.
— Лечить! Лечить! Три минуты — не больше! Мне ясно, где прячется боль. Я знаю, где она! Найдено место!
Он остановился на секунду и тут же выдал, уверенно и чётко:
— Воспаление синей полусферы пятого желудочка сознания Аткамы!
— Воистину! — завопил Фёдор и упал на колени.
«Да у меня нет такого, — мысленно ответил Дмитрий Иванович. — И сознания такого нет…»
И тут же почувствовал, как вслед за первой, тёплой волной, пошла вторая — короткая и жгуче-огненная.
Будто языки пламени мгновенно лизнули кожу и тут же отступили прочь.
«Но ведь действует! — возразил ему непонятно откуда появившийся и дотоле ни разу ещё не звучавший (низкий почти до баса) и как будто даже не ему принадлежащий внутренний голос. — Не всё ли тебе равно, как он это называет? Не всё ли тебе равно, что он при этом делает? Да и откуда тебе знать, что нет у тебя синей полусферы? Может быть, и есть? Есть, но только ты об этом ничего не знаешь, потому что не объяснили тебе в своё время, не рассказали правду о твоём теле. А на самом деле там есть такое! О, такое!»
Дмитрий Иванович услышал сбивчивое, свистящее бормотание. Он увидел, что лицо врача стало вдруг наливаться травянисто-зелёным, густеющим цветом, кожа на щеках как будто вздулась пузырями, губы кривились в быстром, лихорадочном шёпоте:
«Свет выше чем дом… Каждый человек имеет пять сознаний: сознание Ленгуса — для своего мира… цвет его — землистый, глинистый, травяной, облачный, солнечный… наслаждение, отчёт, ответ, страх, радость, цветы, дорога, дом, дерево, луч, смех, свет… Сознание Мернеса — для угадывания брошенной кости, цвет его — закат, тучи над крышами, капли на лету, иногда — серебро… предупреждение, предугадывание, предсказание… Сознание Аткамы — для созерцания небес… цвет его — глаза над нами, чаша, полночь без исхода… звёзды слетаются к фонарям, вода льётся через края водопадов, цветочные крылья, кожа, нектар, стихающий ветер, потрескивают мачты, терракота, песчаные города, режется мрамор, смыкаются своды, бирюза в доломитовой чаше, пьётся легкий янтарь…
Сознание Энго — чёрный ход… недостижимо, непредставимо… не дано! Нет цвета, нет ничего… Только ничего, и кто может — видеть, ощутить, вдохнуть, стать — тот уходит чёрным ходом, ни вверх, ни вниз, ни в сторону, ни назад, ни вперёд. Уходит истинно туда, куда уходит. Не более того, но и не менее того! Не дано, но возможно!
И ещё одно сознание дано. Сознание человека — для сознания человека, сознание для сознания себя, или поддержания процесса сознания себя, или обмана дающих сознание. Цвет его — пыль, молотая мука, стриженные волосы, сплюнутые слова, высохшая слюна, свернувшаяся кровь, сделанное дело, несделанное дело, выдохнутый воздух, свернувшееся молоко, кухонная раковина, занавески на проволоке, гудрон на дороге, крыши раскатанным рубероидом, полдень сном, полночь провалом, руки ощупью, шорох, шероховатость, неровно, царапает, пощипывает, горло…
Я всё вижу. Я всё чувствую. Я знаю, сколько сознаний дано каждому, сколько проявлено. Из восьми глаз каждого человека можно увидеть только три, я вижу все восемь…»
Шёпот прервался.
Врач опустил глаза. Сидел неподвижно, дышал тяжело и быстро, так что лёгкие, будто до срока изношенные, хрипели и посвистывали.
«А чего же он себя не подлечит?» — вновь спросил себя мысленно потрясённый лечебным сеансом Дмитрий Иванович, чувствуя, что его-то лёгкие теперь дышат легко и спокойно, не выталкивая уже воздух тугими комками.
— Ну как? — спросил Фёдор и подмигнул. — Каково? Я вот тоже сначала так себе… всяко думал… В общем, и нехорошо иногда думал…
Дмитрий Иванович кивнул («как же, понимаю…») и покашлял, не осталось ли в лёгких прилипчивой серой слизи.
Ни раздражения, ни першения в горле — ничего.
Лёгкие словно промыли от накопившейся грязи. Прямо сейчас, вот здесь, в этом подвале, вот этот калека — промыл, вымыл, избавил… Нет, как же…