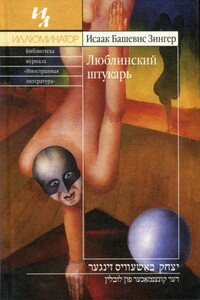Он почесал в затылке. Какой смысл изводить себя подобными мыслями? Сердце ныло, в горле стоял ком. Ни один грех не останется безнаказанным, размышлял он.
Вошла Ида, обдав его ароматом духов и кремов. По лихорадочному блеску в глазах он сразу понял, что она выпила что-то крепкое; последнее время у нее появилась привычка приходить к нему выпившей. Она захлопнула дверь и тоненьким, неестественным голоском провозгласила:
— Ты еще не лег или уже спишь, мой повелитель?
— Послушай, Ида, если хочешь, мы можем на этом поставить точку. Прямо сейчас.
— Что тебя тревожит? Великий визирь чем-то недоволен?
— Я еще никогда никому себя не навязывал. И не буду.
— О чем ты? Разве кто-то сказал, что ты себя навязываешь?
— Терпеть не могу эти фокусы, это притворство. Я ухожу.
Он приподнялся. Кушетка под ним жалобно скрипнула.
— Ты что, спятил? Куда ты несешься? Зося подумает, что мы с тобой лишились рассудка.
— Пусть думает что угодно. Всему есть предел.
— Абрам, что с тобой происходит? Это из-за того, что я собираюсь в Париж? Я же еще никуда не еду. Ты ведь знаешь, мне здесь плохо. Я малюю и малюю невесть что и сама не понимаю, на каком я свете. Зачем я пишу картины? Кому они нужны? Мне никогда еще не было так одиноко, как на этой проклятой Праге.
— Я тебя сюда не ссылал. Это не Сибирь, да и я не царь.
— Именно что царь! Сижу и жду тебя каждый вечер, а тебя невесть где черти носят. Не ты ли обещал мне, что разведешься с Хамой и мы поженимся? Из-за тебя я бросила богатого мужа.
— Сколько можно повторять одно и то же! У этой истории вот такая борода!
— Что со мной будет? С годами я не становлюсь моложе и здоровее. Мне так плохо, что приходится пить, чтобы успокоить нервы.
— Еще не хватало, чтобы ты стала пьяницей!
— Перестань кричать. Она слышит каждое слово. Я не в состоянии писать — в этом все дело. У меня нет таланта — рисовать я не умею. Сегодня мне вернули все картины, которые я отправила в галерею. Зося их забрала. Надо мной все смеются.
— Если смеются здесь — что же будет в Париже?
— Пускай смеются. Это ты всюду ходил и говорил, что я — гениальная художница. Чтобы я ушла от мужа.
— Заткнись!
— Ну же, ударь меня! Нет, это не жизнь!
И она с рыданиями бросилась на кровать. В соседней комнате Зося сделала шаг — и замерла на месте. Абрам подумал с минуту, а затем потушил свет. Очередная победа. Сколько таких побед он одержал за тридцать пять лет, что он волочится за женщинами? Он заранее знал, что будет дальше. Они помирятся в темноте, будут целоваться и расточать друг другу ласки, бормотать нежные слова. А потом — строить самые несбыточные планы и любить, самозабвенно любить друг друга. При всей своей усталости, при всех своих болезнях Абрам по-прежнему оставался любовником хоть куда.
3
На следующий день, в полдень, Абрам сел в трамвай и поехал домой. Было холодно и пасмурно, вот-вот мог начаться снегопад. Солнце, украдкой выглядывавшее из-за туч, было сегодня маленьким и белым, словно заиндевевшим. Под ногами хрустел замерзший снег. С крыш и балконов свисали сосульки. Прохожие скользили по обледеневшим тротуарам. Спотыкались и поскальзывались лошади. Абрам достал из нагрудного кармана зеркальце и взглянул на свое отражение. Лицо желтое, борода всклокочена, под глазами синева. «Я становлюсь похож на старого бродягу», — подумал он. Он с удовольствием бы постригся, постриг бороду и сделал массаж лица у своего цирюльника на Злотой, но задолжал ему три рубля с мелочью. Придется сегодня же заплатить по счетам и найти кого-то, кто дал бы ему снова в долг. Он поддался Зосиным уговорам и съел огромный завтрак — горячие булочки, жареные сосиски, омлет, черный кофе, — и теперь его мучила отрыжка. Ему хотелось поскорей оказаться дома, лечь в постель, отоспаться после бессонной ночи. Но он понимал: скандала с Хамой не миновать. Он знал наизусть все претензии, которые она ему выскажет, все жалобы, которые слетят с ее языка, грубые слова, которыми будет его обзывать, угрозы, которыми попытается запугать. Только об одном молил он Бога: чтобы не было дома дочерей. Он медленно поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Перед ним стояла Хама, она была в черном стареньком платье, лицо у нее пожелтело, из родинки на подбородке торчали три волоска. В ее взгляде читалось скорее презрение, чем гнев.