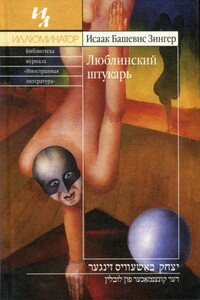Абрам тут же стал засыпать ее заказными письмами и телеграммами, однако Ида на них не отвечала. Из Лодзи она уехала и жила теперь где-то в курортном городке по соседству. Тем временем началась война. Немцы вошли в Лодзь. Ниночка сняла комнату в Варшаве, на Огродовой улице, и стала брать у профессора консерватории уроки пения. Перед тем как Абрам собирался нанести ей визит, она всякий раз звонила ему по телефону и говорила, что принести — булочки, копченую лососину, сыр, вино, шоколад и даже воск для натирания полов. Хотя Ниночка была его любовницей, она никогда не говорила ему «ты» и постоянно напоминала, что он ей в отцы годится. По-русски Абрам говорил свободно, однако Ниночка постоянно ругала его за грамматические ошибки. По вечерам она любила вставить свечу в подсвечник, сесть на пол и рассказывать о том, как несправедлива к ней судьба — как ее преследовали дома, в школе, в драматическом кружке и в одесских театрах. Речь ее прерывалась рыданиями. Она курила одну папиросу за другой и, точно птичка, клевала изюм, орехи и карамельки из стоявшего рядом бумажного пакета. В постели она вздыхала, плакала, читала наизусть стихи, напоминала Абраму, что у него внук и слабое сердце, и говорила о своих одесских любовниках, называя их уменьшительными именами.
Абрам проклинал ее на иврите, которого она не понимала: «Образина! Туша вонючая!»
Ниночка и в самом деле ждала Абрама у Леиного дома, под балконом. На ней были меховой жакет, шляпа с широкими полями, зеленая юбка и высокие зимние сапожки. Руки она прятала в муфте. Чтобы согреться, она прыгала с ноги на ногу. Она окинула Абрама недовольным взглядом своих больших глаз:
— А я уж решила, что вы у нее всю ночь проведете.
— Я добыл сто рублей.
Они шли молча, на некотором расстоянии друг от друга. Абрам волочил за собой зонтик и качал головой: «Управляющий Копл станет зятем реб Мешулама Муската! Его, Абрама, свояк! Вот те на!»
На Огродовой Абрам поднялся в Ниночкину комнату, имевшую прямой выход на лестницу. Поднимаясь по ступенькам, он часто останавливался перевести дух. Сердце вырывалось из груди. Ему вспомнились Идины слова: «Прощай навсегда!» Ниночка шла впереди. На пороге она, не скрывая своего раздражения, напомнила ему, чтобы он вытер ноги. В комнате было холодно, царил беспорядок. У холодной плиты стояло ведерко с несколькими кусками угля. На пианино громоздились кастрюли, стаканы, чашки и миска с рисом. На расстеленной постели лежала почему-то завернутая в полотенце железная крышка. По ночам Ниночка прикладывала ее к животу — она мучилась коликами.
Абрам присел на кровать:
— Ниночка, приготовь что-нибудь поесть, умираю от голода.
— Вот и умирайте себе на здоровье!
Тем не менее она стала разжигать керосинку. Подрезала фитиль, подкачала керосин, выругалась. Абрам закрыл глаза. И вдруг, ни с того ни сего, расхохотался.
— Вы что, спятили?
— Я теперь благородных кровей. Управляющий Копл — мой свояк! Жаль, что старый хрен до этого не дожил!
1
В первые дни жизни в казарме Аса-Гешл нисколько не сомневался, что не вынесет выпавших на его долю мучений. Каждый вечер, укладываясь на койку, он в ужасе думал о том, что утром не сможет подняться. Из-за катастрофического положения на фронте обучение рекрутов велось сумасшедшими темпами. Вместо того чтобы отправлять их, как это делалось раньше, в тыл на учения, рекрутов держали в казармах недалеко от линии фронта. Аса-Гешл с нагрузками не справлялся: у него ныли кости, желудок отказывался принимать грубую солдатскую пищу. Посреди ночи офицеры поднимали солдат по тревоге, и Аса-Гешл должен был выбегать на плац, на ходу застегивая гимнастерку. По утрам, во время смотра, он дрожал от холода. Он подвергался постоянным насмешкам со стороны других рекрутов. Ему угрожали военно-полевым судом. Из всех рекрутов Аса-Гешл был самым нерадивым. Но шли недели, и постепенно он со своим положением свыкся. По вечерам, перед отбоем, он садился на койку и читал «Этику» Спинозы. Играла гармошка, солдаты плясали камаринского. Керосиновая лампа отбрасывала бронзовый свет. Одни солдаты пили чай, другие писали письма. Кто-то рассказывал анекдоты, кто-то пришивал пуговицы. Солдаты из христиан потешались над ним. Евреи подходили узнать, что он читает. Они никак не могли взять в толк, как это ему удается разобрать такой мелкий шрифт, да еще в такое неподходящее время.