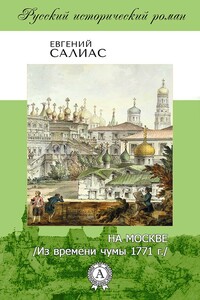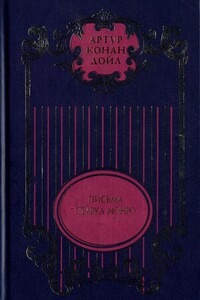Иваниха, недовольно поджав губы, удалилась.
Повитуха положила подкидыша на лавку, озаботилась:
— Пойду, Фому со двора отправлю, а то как бы не вызнал про Никитино угощение — довольно уж без меня бражничал.
Она вышла на высокое крыльцо, огляделась. Супружник задумчиво сидел на сложенных в углу двора бревнах.
— Фома! Поди-ка сюда!
Фомка с готовностью бросился на зов и, вскинув кудлатую бороденку, задрал голову:
— Тута я, Акулина… Тута…
— Ну-ка, обскажи ладом, что да как…
Фомка почесал в затылке, собираясь с мыслями, и, насколько мог, подробно поведал об утреннем происшествии. Акулина слушала, не перебивая. Фомка закончил свой короткий рассказ и ждал, что молвит жена.
— Ну, ступай домой, — махнула она рукою и повернулась, чтоб уйти.
Фомка окликнул:
— Акулина! Чего с дитем-то станется?
— Чего с ним станется? Себе возьмем. Нам, чай, подкинули?
— Ну да, нам! — Фомка просиял, выдохнул мечтательно: — Сы-ы-ын…
— Дочь, — отрезала Акулина и скрылась в избе.
Фомка оглядел двор и, не видя, с кем бы поделиться новостью, горделиво выпрямился, одернул рубаху, покачал головой:
— Во как! Дочь! Раскудрит ее…
В распахнутых воротах никитинской усадьбы показалась телега Федосея-рыбника. Федосей, в кожаном запоне и высоких сапогах, шагал обочь воза, держа вожжи. Въехав во двор, вскричал:
— Тпру-у! Стой!.. Эй, Фома! Пособи!
Фомка с готовностью подскочил и, не спрашивая, на что звали, тотчас ухватился за край тяжелого короба, доверху наполненного кишащей, искрящейся на солнце свежей рыбой. Из поварни вышли Иваниха с сыном Данилой. Тот в одной руке нес кринку с молоком, а другой на ходу отирал сальный рот.
Стряпуха поманила рыбника:
— Сюда… сюда несите.
Данила вознамерился было помочь, но Иваниха его отослала:
— Они тут без тебя управятся. Ступай, хозяйка ждет. Да гляди, молоко не расплескай!
Семеня к поварне, согнувшись под тяжестью короба и кряхтя, Фомка сообщил:
— Слышь-ка, Федосей… У меня ить дочь появилась.
Рыбник молчал и громко сопел. Фомка, посчитав, что тот не расслышал, повторил взахлеб:
— Ты, Федосей, слыхал ли? Сказываю, дочь у меня.
— Угу, — буркнул рыбник, решив, что Фомка повредился умом.
Едва короб внесли в поварню и поставили в угол, Федосей сбежал, не обращая внимания на что-то толковавшую ему стряпуху. Фомка остался с Иванихой и уж в ее лице нашел благодарную слушательницу. Она не только заставила его дважды поведать про подкидыша, переспрашивая да уточняя, но и вызнала о решении Акулины оставить младенца у себя.
Довольный собственной значимостью, распарившись в духоте поварни, Фомка расслабился и, кивнув на короб с рыбой, сведал:
— Чего, никак пировать ладитесь?
— Ну да, ладимся, — ворчливо подтвердила стряпуха, помешивая в котле. — Успеть бы к вечеру!.. А Никита Кузьмич уж с ранья празднует, варничных потчует.
Фомка насторожился:
— На промысле?
— А где же еще? Помоги-ка…
Фомка пособил переставить котел и заторопился:
— Ну, так я побег? Надобность у меня… Раскудрит ее в туды!..
Иваниха тяжело опустилась на скамью, отдуваясь и отирая передником потное лицо:
— Ась?.. Ступай, ступай, Фома, с Богом.
Фомка опрометью, не разбирая дороги, вылетел из никитинского двора и устремился к варницам, пыхавшим паром на другом берегу Усолки. И как же он не помыслил! Коль дите народилось, Никита обязательно угостит своих работных! То ж опосля будут родины — званый пир… Ну, а сразу-то, сразу — своим варничным поднесет… Эх, Фома, дурная голова, сколь времени потерял! Поди ить, выхлебали все? От столь горестной мысли Фомка припустил быстрее. Издали, еще с моста, углядел он немалое оживление возле одной из Никитиных варниц.
Никита, могутный, статный мужик с саженными плечами, уже изрядно захмелев, по-ребячьи радостно тыкал в грудь каждого вновь прибывающего и кричал:
— Сын у меня! Ей-богу, сын!.. Гуляй, народ! Веселись! Сын!.. — при этом черпал ковшом из полупустого бочонка и совал очередному поздравителю.
Рядом с ним переминался с ноги на ногу тщедушный, чисто одетый мужичок. Всякий раз, когда Никита нырял ковшом в бочонок, дергал его за рукав:
— Записать бы надобно, Никита Кузьмич, оплатить…
— Цыть ты, кочерыжка корчемная! Не стой над душой! — отмахивался от него солевар. — Отдам, вот те крест, отдам! Как весь бочонок опростаем, за все и отдам…