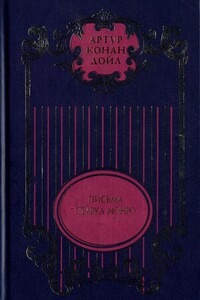Великий князь, в душе опасаясь Божьего гнева, спустя малый срок женился-таки на Елене Глинской. Он увлекся красавицей настолько, что пренебрег древним обычаем и сбрил бороду, дабы казаться моложе и соответствовать иноземному обычаю, к которому с девичества привыкла молодая жена.
Бояре изумились как выбору Василия Ивановича — слыхано ли, великий князь Московский взял в супруги девицу из незнатного чужеземного роду! — так и обновлению государева лика. Немало оказалось недовольных, считавших этот брак блудодеянием — при живой-то жене! Но высказываться открыто никто не осмелился. Свадьба была великолепна, ее пышно праздновали три дня…
Но потянулся год за годом, и вновь — ничего! И этот брак оказался бездетным. Будто само небо было против Василия Ивановича. Еще горше стало государю, как прослышал, будто Соломония при пострижении оказалась в тягости. Уже в монастыре родила сына, нарекла его Георгием и растит в обители тайно. Ужас и раскаяние охватили великого князя, спешно послал он разузнать, правда ли это. Гонцы вернулись с известием, что Соломония усердно молится, сына при ней не обнаружено, а сказки опальные она измышляет сама, дабы государя в смуту ввести.
Долго беспокойно было на душе у великого князя, верил он, что грешен и что в наказание не дает ему Господь наследника. Более трех лет ездили они с новой супругой в дальние обители, пешими ходили в ближние, раздавали богатую милостыню, усердно молясь о чадородии… И все, увы им, без толку. Снова и снова Елена слезно взывала к Господу и Святой Богородице. Наконец молитвы были услышаны: великая княгиня оказалась тяжелою… И вот пришел срок, и ныне с часу на час ожидается появление долгожданного наследника. Благослови, Господи, на счастливое разрешение!..
Внезапно налетела гроза: земля и небо сотрясались от страшных громовых ударов, следовавших один за другим; непрерывно полыхали молнии, будто разрезая мир на части; редкие, тяжелые капли дождя пали на сухую землю… Затем хлынул сильный ливень — и великая княгиня разрешилась.
Еще гроза не утихла, а боярыни уже подхватили младенца, обернули тонким полотном, укутали в одеяло парчовое и с поздравлением поднесли великому князю. Не описать словами радости Василия Ивановича, его счастья и облегчения от милости Всевышнего.
— Простил! Простил Господь! Явил знамение свое! — заливаясь слезами, ликовал государь, поднимая высоко над головою долгожданное дитя.
Великий князь приказал бить во все колокола, и Москва пробудилась от благовестного звона: родился наследник русского престола! Радуйтесь, крещены души!
Василий Иванович не знал, как изъявить благодарность Богу. Он снял опалу со многих знатных людей, подозревавшихся в кознях против его супруги Елены, открыл темницы, золото сыпал без счету в казны церковные, на сирых, бедных да убогих. На государевом дворе днем и ночью толпился народ: пустынники приходили благословить державного младенца, из ближних и дальних уголков государства ехали князья, воеводы и наместники с богатыми дарами. Василий Иванович был безмерно счастлив, радость отцовства затмила в его душе все прошлые невзгоды.
Крестить сына великий князь повез в Троицкую лавру, где благочестивые иноки во главе с игуменом Иоасафом совершили обряд по издавна заведенному чину и нарекли государева наследника Иоанном. Приняв младенца от купели, Василий Иванович положил его на раку с мощами святого Сергия, моля преподобного:
— Стань сыну моему Ивану наставником да заступником в опасностях бытия его. И не оставь своею милостью ни во младенчестве, ни во отрочестве, ни во зрелые годы! Веди да направляй, оберегай отворотов, явныхи тайных…
Вновь нареченный Иоанн Васильевич лежал спокойно и беспечно глядел на счастливых отца с матерью, на иноков, взиравших на него со слезами умиления, на множество сияющих свечных и лампадных огоньков. И никто не предполагал, что радость продлится недолго, что младенцу сему судьба уготовила тяжелый крест сироты в детстве и славу грозного вершителя судеб в зрелости. Обереги и наставь его, преподобный!..
* * *
Далеко от Москвы, в Усолье Камском, родители тоже крестили своих младенцев. Под шатровым деревянным верхом Софийской церкви слышалось извечное: