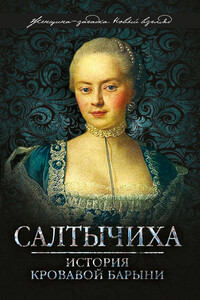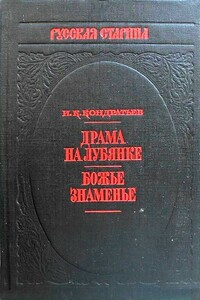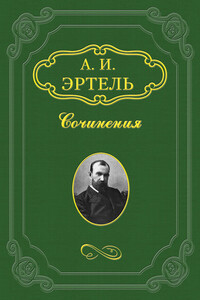Старик сделал неопределенный жест правой рукой.
– Вот так… и не пикнул… «Ага, попался-таки! – говорю я ему. – Постой, есть гостинчик и для тебя…» И вот так…
Старик вдруг пугливо начал оглядываться.
– Ты смотри, Ирочка… никому, никому не говори… – понизил он голос. – Чтоб никто не прознал, никто… а то…
– Да про что ты говоришь-то? – спросила жена в мучительном страхе, ничего не понимая в словах мужа.
– Молчи, молчи!.. А главное… Ах! – вскрикнул вдруг старик, хватаясь за голову. – Да не клади мне на голову топор!..
Наутро старик слег, забредил и уж более не вставал. Ироида Яковлевна потеряла голову, очутившись неожиданно в самом беспомощном состоянии. Но ее несколько выручила старуха Ионы Маркианыча, явившаяся с розысками своего сожителя. Ионы Mapкиaнычa она, разумеется, не нашла, да и не особенно-то заботилась об этом, а жить у Ироиды Яковлевны осталась. Старуха она была сметливая, проворная и за дело сиделки возле больных принялась охотно. Особенно охотно она ухаживала за дочерью старого преображенца, благоразумно рассуждая, что молодому жить надо, а старикам пора уж и в могилушку. Ироида Яковлевна, напротив, сочувствовала больше своему старику, с которым прожила столько счастливых лет. Но дни старика были уже сочтены, и она напрасно бегала для него по всем закоулкам Москвы, отыскивая знахарок и лекарок, напрасно поила его всякого рода настоями из трав. Старик хирел все более и более. Он страшно исхудал, седые волосы его все повылезли, и он лежал на постели, как скелет. Почти все время бред не покидал старика. Он бредил битвами со шведом, бредил тем, как однажды великий император потрепал его под Нарвой по плечу, назвал молодцом и наградил пятью рублями серебром. Эти пять рублей обогатили его – он на них разжился. Бедный, никому не ведомый сержант купил себе такой хорошенький домик на Сивцевом Вражке! «Женка, женка! – лепетал старик. – Как нам хорошо жилось! Домик, садик, земли много, и всего-то вволю, вволю… где же это все? где?… или я не хозяин здесь? Ионка хозяин?.. Ионка?.. Ха!.. А я ему – вот как… вот!..» И старик махал исхудалой, как щепка, рукой.
Накануне смерти, придя несколько в себя, он пожелал видеть дочь.
– Сюда ее… ко мне… ко мне…
– Но и она хворает, – сообщила Ироида Яковлевна.
Старик помолчал, пожевал губами.
– Хворает?
– Хворает.
– Покажи мне ее хворую.
Старику принесли начавшую уже поправляться дочь. Он долго смотрел на нее, а потом вдруг зарыдал.
– Прощаю… прощаю… – заговорил он сквозь слезы. – Снимаю проклятие…
Дочь тупо смотрела на отца, не проронив ни одного слова, и ее унесли от старика с каким-то холодным, упорным выражением на бледном лице.
– Постойте… постойте… – силился вскрикнуть старик, когда уносили от него дочь. – Дайте мне ее поцеловать… дайте!..
– Не хочу! – ответила ему резко и неприязненно уносимая дочь…
– А!.. – простонал старик и откинулся головой на подушку.
Через несколько минут, комната наполнилась горьким женским рыданием. То рыдала Ироида Яковлевна над трупом своего дорогого мужа.
Старого преображенца не стало, и не стало именно в тот день, в день 17 октября 1740 года, когда в Петербурге не стало и императрицы Анны Иоанновны.
Сбылось предсказание Ионы Маркианыча. Не напрасно старый преображенец сказал за собой «слово и дело». Но это же «слово и дело» и погубило их обоих и наполнило когда-то счастливый малиновый домик стоном и рыданиями. Счастье унеслось из него куда-то далеко-далеко, как уносится оно отовсюду, где бы ни побывало, где бы ни свивало себе на вид кажущегося прочного гнезда. Унеслось – и позабыто все, все утрачено, а после утраченного кажущегося счастья несчастье кажется еще горше, еще тяжелее, раны горя кажутся еще больнее.
О, так будь же ты проклято, наше непрочное человеческое счастье!