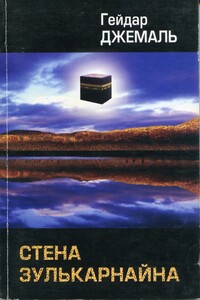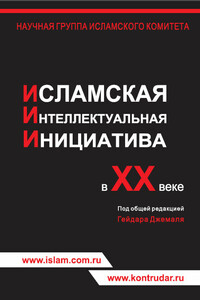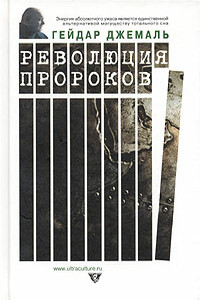Камю пишет «L'Homme revolte», и там половина — весь Достоевский.
Достоевский вылезает из шинели Гоголя, а Ницше из Достоевского, — получается такая «матрешка».
Величие и гениальность Достоевского в том, что он раньше Ницше сказал: «Бог умер». Но он произнес «Человек умер», имея ввиду, что человек умер как значимая самоценная реальность, человек уничтожен социумом. И ответом может быть только абсолютный уход от социума, абсолютное восстание, абсолютная ненависть к социальному. Вся прекрасная панорама от Мышкина до Смердякова, панорама от одной формы безумия к другой — восстание против общества.
Если читать Герцена, он ходит кругами и сто раз возвращается к тому, что он уже говорил. У него несколько ударных сцен. Сцена с Бенкендорфом и с Дубельтом — уникальный момент в начале второго тома.
У меня Сахарный[174] был в гостях, пришел проведать. И я не мог удержаться и прочитал ему эту сцену. Даже сам подивился в очередной раз, насколько блестяще это написано[175].
Герцен должен явиться и просить, чтобы его, ввиду больной жены и детей, не отправляли в «Коми АССР». И пока он ждет, описывает сцены в приемной.
В приёмной стоял седой старик-полковник в темнозеленой шинели с крестами и медалями, весь дрожавший, со свернутой бумажкой в руках. Выходит Бенкендорф с мятым после попойки остзейским лицом, Дубельт за ним семенит в застегнутом на все пуговицы сюртуке. Этому предшествует сцена, когда строевым шагом появляется генерал, — просто генерал на выставку, затянутый в белые лосины, звенит шпорами, с адъютантом с журавлиными ногами и дегенеративным беличьим личиком, который останавливается поодаль. Появляется Дубельт, и генерал ему рапортует:
— Честь имею доложить: отправляюсь по убытию в такую-то часть, такого-то Мухосранска.
Дубельт говорит:
— Понимаю-с, а что вы хотите-с?
— Явился доложить, хотел бы представиться его высокопревосходительству графу!
— Это хорошо, сейчас я распоряжусь, выясню.
Он скрывается за дверью, потом выходит через полминуты и говорит:
— Граф сейчас занят, но считайте, что вы представились, граф вас благодарит.
— Рад покорнейше!
Поворачивается с грохотом и выходит.
Герцен пишет, что эта сцена искупила очень многое в том, что предшествовало визиту. Дальше появляется Бенкендорф, когда генерал уже свалил.
Бенкендорф проходит мимо старика со свернутой в трубочку бумажкой, и тут старик падает перед ним на колени и кричит:
— Ваше сиятельство!
Бенкендорф шарахается в сторону:
— Что за мерзость! Немедленно встаньте!
И проходит дальше. Старик поднимается весь в слезах, губы у него дрожат. Он как бы очень долго собирался на эту встречу, все силы у него ушли, он добивался приема, и всё рухнуло. Дубельт идет за ним…
— Ну зачем же вы так? Дайте вашу бумажку. Я посмотрю, что можно сделать.
Это настолько остро, современно. Такое переживание вброшенности…
Момент «визуалки» отсутствовал у многих в XIX веке. Вот Азамат у Лермонтова схватился за кинжал, бросился — у него этот кинжал выбили из рук. Но не видно, как это происходило. Если сравнить с другими абзацами, то не получается, что с этим кинжалом можно было броситься. Он не там для этого стоял. Это нельзя визуализировать.
Возьмите Льва Толстого, посмотрите, к примеру: Пьер вошёл, когда Елен раздевалась. Ты не можешь, как по сценарию, следя за текстом, людей ставить в кадре.
А сейчас любая сволочь пишет так, что легко прямо по тексту снимать кино, — если это профессионал, конечно. Все учитывают картинку.
Там была подробность, душевные движения, а здесь — положение фигур относительно друг друга. Но мизансцена важна, потому что у тебя гораздо меньше работы воображения.
У Герцена все очень хорошо рассчитано. Как Бенкендорф идет с Дубельтом между колонн, как к ним подходит старик…
У Достоевского получше. Ну как получше — у него есть определенный синтез мизансцены и «душевных переживаний». Очень своеобразный синтез.
Например, в «Преступлении и наказании» он пишет от лица Раскольникова, что вот сегодня с утра Раскольников был обуреваем тяжелой думой, поразившей его ещё вечером. С утра она к нему вернулась, вот он идет по тротуару, заходит в какие-то закоулки, но не видит ничего, и вдруг останавливается перед подъездом. И совпадение того, что этот подъезд резонирует с его думой, его поражает. Он говорит, посиневшими губами, что этого не может быть. Там какой-то синтез наличествует.