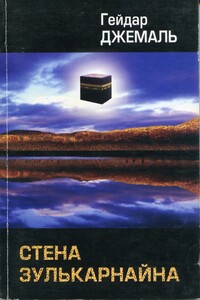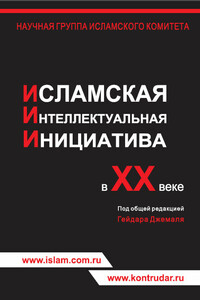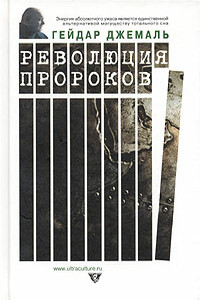Почему мой конфликт с внешним миром был таким острым? Власть — не моя. Не я являюсь обладателем власти. Я мог бы какую-то власть принимать, только если сам являюсь правящим.
Воля к власти? Но воля к власти сама по себе бессмысленна, поэтому я искал для себя оправдания воли к власти. И какое-то время мне казалось, что я могу найти такое оправдание в философии Гегеля — что не очень остроумно. Хотя Ницше меня тоже привлекал. Сочетание Ницше и Гегеля.
Это все было объектом размышлений до 20 лет.
Некий социум, общественные идеалы, поднятие к свету и солнцу интеллигентских масс в очках с портфелями в шляпах — для меня постановка вопроса абсурдна.
Я верю в касту воинов. Верю, что всегда было только две касты — попы и воины. Либерализм, не либерализм, секуляризм, не секуляризм, буржуазия, не буржуазия — есть только две касты. Да, они разгромили касту воинов. С приходом абсолютизма, с приходом лицензированного офицерства, созданием придворной аристократии вместо аристократии меча каста воинов уничтожена. Распалась на разрозненных одиноких героев.
Я верил в аристократию, в героев. Мой гештальт был образован так: слово «рыцарь» являлось ключевым. Рыцарь стоит вне и над. Это человек, наделенный миссией, — миссией, связанной со смертью. Рыцарь — это ангел смерти. Это определило всю мою жизнь.
Женя Головин написал знаменитые строки, в которых намеренно наивно, инфантильно выражено некое кредо:
Жмите волчью лапу.
Веруйте в гестапо.
Веруйте в мечту[172].
Одинокие герои рождаются в народной толще — Бакунин, Нечаев, Че Гевара, Карлос. Те, кто были воинами, кто шли в крестовые походы или наоборот, их отражали, превратились в революционеров. Я никогда не поверю, что истинные революционеры руководятся заботой об «интересах народа». У человека колоссальный разрыв между матрицей и подлинными побуждениями. Конечно, если он прочел Коммунистический манифест, живет в конце XIX века, то у него в голове белиберда про народ: он говорит, что нужно вывести к свету это ужасное зачморенное огромное стадо и всё такое. Но подлинный пафос в его душе — черный индивидуальный ницшеанский романтизм.
Это хорошо показал автор романа «На краю», изданного в 1926 году. Гениальная книга — жалею, что она куда-то делась.
Роман об офицере-аристократе, сыне гвардейского генерала, который учился в пажеском корпусе. У него нет состояния, нет поместья, он зарабатывает на жизнь, преподавая в элитных дворянских домах, будучи сам человеком с именем. При этом он эсер, но вхож всюду — вплоть до тезоименитства принца Ольденбургского. Эсер «товарищ Сергей» встречается с другими товарищами в рабочей ячейке и читает «Искру».
По сюжету книги ему дают задание — убить некоего губернатора. И он его убивает, вызвав на дуэль после игры на золото в карты с товарищами по пажескому корпусу. Они играют всю ночь, и он подводит губернатора, с которым он учился в юные годы, к конфликту и дуэли. Утром они едут в парк, выбирают шпаги, — дуэль, герой губернатора убивает.
После чего товарищи эсеры ему закатывают дикий скандал. Как он смел обойтись с приказом партии таким средневековым феодальным образом? Ему приказали провести ликвидацию, а он ее провел в форме дуэли, то есть дал идеологически противоположный вариант, обессмыслил акцию.
Здесь очень тонко схвачена идея черного романтизма байронического революционера, героя, в противопоставлении тупому унылому марксистскому замесу в стиле «товарища Сергея», который в очечках приходит на собрание, разворачивает «Искру», читает высокие строки и говорит: «Вот, товарищи, сейчас перед нами очередная организационная задача…»
Я понимаю все возражения, которые можно сделать на этот счет. Но есть одна тонкость.
Черный революционный романтизм — субстанция, горючее, и оно сверхценно. Но его надо трансцендировать, превратив в системное радикальное движение через религию, через ислам. Религия является тем солнечным лучом, который, будучи сконцентрированным в фокусе наводимой линзы, зажигает горючее, оно дымится и вспыхивает бешеным пламенем. А горючее — черный романтизм индивидуального героизма.