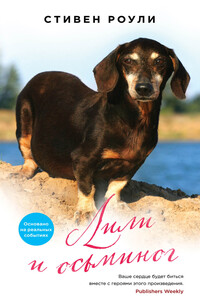Есть смена эпох. Люди, которые живут и уходят в зависимости от эпохи, не могут о них свидетельствовать.
Представим, что мы подняли сейчас из могилы Высоцкого и попросили его рассказать, что он пережил, охарактеризовать свою эпоху, увязать себя с ней. Мы бы ничего интересного не услышали. Всё, что он мог рассказать, он уже рассказал в своей известной песне «На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики…». Там он изложил все свое видение эпохи: войну, послевоенное время, «страна лимония, сплошная чемодания». Песня хорошая, спору нет, но это не свидетельство эпохи — это ничто. Несколько красивых штрихов типа «Где мой черный пистолет?» — это не свидетельство.
Свидетельствовать об эпохах могут только люди, которые от них не зависят, которые проходят сквозь них, как игла сквозь материю.
Я думаю, что могу свидетельствовать свою эпоху. Причем не только времена, в которых жил, но и те, которые мне предшествовали, и даже те, которые будут после меня, — в некоторым смысле.
Потому что я жил очень концентрированно, вобрав в себя все признаки, эмоциональные штрихи, экзистенциальные привкусы тридцатых, двадцатых даже и дореволюционных годов. Я знал людей, начинавших жизнь до революции, непростых людей. Впитывал качество их экзистенций, любил их время и остро чувствовал жизнь после 1900 года. До 1900 — уже туман, врать не буду: люди, до которых я дотягивался рукой, были ровесниками века или родились позже.
Я остро чувствовал тридцатые годы и войну, хотя всё это было до моего рождения.
Когда я пошел в школу, был Сталин. Я рассматривал еще до школы детские книжки типа «Родной речи» с его портретом. Берия был живой реальностью, дед при мне звонил Маленкову. С первого класса до последнего я учился при Хрущеве. Сняли Хрущева, и я закончил школу. Это время мне изнутри понятно. Могу его свидетельствовать, потому что я не принадлежал этому времени.
Поэтому начать разговор нужно с определения особенностей, в результате которых на свет появилась моя экзистенция.
Две прямые пересеклись и дали эту уникальную точку — они не должны были никак пересекаться, потому что они в разных пространствах.
Уникальность этой точки вынесена за пределы любого существования, потому что она будет реализована только когда перестанет существовать.
Но нужно понять, откуда эта точка взялась, почему она такая странная.
Сошлись два очень странных, радикально чуждых друг другу, несовместимых потока. Совсем чуждых. Пусть это будет преамбулой к нашему разговору.
Когда я узнал, что я азербайджанец, счастью не было предела. Пока мне внушали, что я русский, чувствовал, что живу в Мордоре, где солнце не светит, вокруг серо-кисельная слякоть, перманентная зима, ходят уроды, к которым я какое-то имею отношение, но очень этого не хочу. Когда мне сказали, что я — азербайджанец, понял, что я сказочный принц, случайно попавший в чужую страну.
Мой отец — человек, убежавший от своей семьи. Его семья — азербайджанская номенклатура. Причем и в царские времена она принадлежала к определенному «руководящему» слою.
Мой азербайджанский дед Шамиль Мирзоев[6] родился задолго до начала XX века. Умер в 1968 году, когда ему было около 80 лет. В 1917 ему было тридцать. Когда я с ним реально стал общаться, ему было 74. Но он не был похож на 74-летнего. Когда мы уже гуляли по набережной в Баку, он был на шесть лет старше меня нынешнего. Дед и выглядел старше.
Это был очень реальный, энергетический человек. Хотя он был выброшен отовсюду, отсечен, изолирован, к нему на улице подходили люди. Руку не целовали, как Эрдогану, но курбеты делали. А он просто шел с палочкой, в шляпе, и с разных сторон к нему подходили и говорили что-то приветственное. Он даже не особо обращал внимание.
Он принадлежал к близкому окружению Багирова, которого расстреляли. Деду повезло: он не состоял в партии, и его просто выгнали без пенсии. Если бы был членом партии, то расстреляли бы. До 1917 года дед — один из руководителей Карабахского уезда, в последующем он входил вместе со своим отцом в состав карабахского совета — «Карабах шурасы». Короче говоря, он заправлял этим делом.