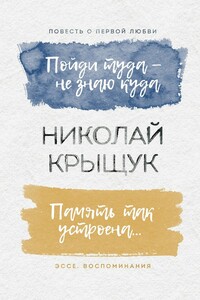С автоматчиками шутили:
— Что, есть хоть у тебя патроны?
— Есть!
— Стрелять будешь?
— Буду!
— Врешь ведь.
Такой юмор.
Спали на так называемых «вертолетах» — в камеру ставятся две скамьи, и на них кладутся доски. Каждый со своей доской-«вертолетом» забегает, кладет между скамьями и прыгает на нее. Бушлат под голову. За ним следующий, и так по порядку. В пять утра подъем и — маршировка, гусиный шаг, потом ползком и так далее.
И вот этот парень издевался. На нем отлично форма была прилажена, густой золотой чуб, пилоточка сбита, подбородок эсэсовский, и он с улыбочкой отдает приказы.
Я побывал внутри их казармы, располагавшейся там же рядом. То, что я там увидел, напомнило момент из «Гиперболоида инженера Гарина». Когда Гарин уже разбогател и качал золото, он нанял гвардию из бывших белогвардейцев. И те там разложились от безделья, только пили и погружались все больше и больше в маразм, носки-трусы валялись всюду. Забавное место, надо его перечитать. Все приметы разложения бывших военных, которые только пьют и играют в карты.
Я живо вспомнил эти страницы из «Гиперболоида», когда оказался в казарме: трусы, носки, двухпудовая гиря между шконок, ни одна постель не застелена, пол жутко грязный и заплеванный. Полный бардак и свинство. Моральное разложение капитальное. А я там был назначен в наряд полы мыть — что-то такое.
Перед тем как передать мое дело в трибунал, они решили в последний раз провести экспертизу. Командир части имел право принять такое решение. Дело готовилось в трибунал, что-то там писали. Последний ход: медицинский совет должен признать меня окончательно здоровым, чтобы отмести все мои претензии на то, что я больной. И после должны судить меня как злостного уклониста, взять под стражу. До этого считалось, что я еще не под стражей. Под автоматом, за колючей проволокой, но не под стражей. А так бы сидел в камере со всеми атрибутами.
Знали, что в Калуге по субботам собирался медицинский совет, — повезли меня в эту Калугу. Привезли в огромный корпус красного кирпича, где должен был проходить совет. Но именно в эту субботу совет не собрался. А после этого уже никаких вариантов. Никто меня второй раз не повезет, а дальше уже только передача дела в трибунал. И я должен находиться в более серьезной военной тюрьме уже «областного» масштаба. Накатанная дорожка. Это уже не какой-нибудь там штрафбат или как он называется?[90] Там проводишь год-полтора, а потом возвращаешься дослуживать. А тут семь лет за уклонение.
И тут сопровождающие, которые были со мной, говорят: давай сюда зайдем, по соседству. И заводят меня в «Бушмановку» [91]. «Бушмановка» — калужский дурдом, созданный еще до революции на деньги помещиков-благотворителей. Построенное ими здание все еще существовало — деревянные корпуса для буйных.
Вот заводят меня в Бушмановку, и я начинаю косить, симулировать безумие.
В «Рукописи, найденной в Сарагосе»[92] был Пачеко, которого время от времени била дрожь, он корчился, издавал пронзительный вопль, а потом продолжал рассказ как ни в чем не бывало. Вот такого Пачеко я изображал. Но опытные старые провинциальные психиатры сразу поняли, что перед ними наивный симулянт. Но они оставили меня: гражданские психиатры гуманисты же. Они знали, что меня ждет суд.
Там я просидел дней двадцать, прибывали еще какие-то мои знакомые из нашей части — гораздо более изощренные. Они же не дураки были жаловаться на ноги. Они сразу договаривались с какой-нибудь своей подругой дома, она им писала письмо, — что вот, мол, я тебя ждать не буду, бросаю, прощай, извини. И вот он это письмо читал, ходил по части, плакал, размазывал слезы, а потом шел в лес, предварительно договорившись с ребятами, и «вешался». Через минуту кто-то появлялся — как бы случайно проходившие в поисках грибов солдаты, — и его спасали, вытаскивали из петли, и хрипящего, с ремнем на шее, приносили в часть. И — сразу в дурдом. Все подтверждали, что подруга написала, что бросает, сука такая… вот их верность… да, он ходил, жаловался, плакал. Таких привозили в дурдом, проштамповывали и через пятнадцать дней отправляли домой.