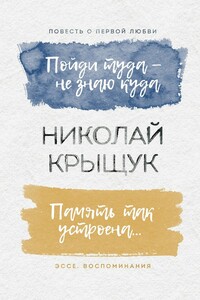У меня вышло иначе: сидел я там дней двадцать. В итоге мне вынесли приговор — «злостный симулянт» — и отправили в Москву на улицу Радио, в 575-й военный госпиталь, где находился жесткий психиатрический тюремный изолятор для тех, кто идет под суд, — как бы «Сербского» в миниатюре.
Там попадались интересные люди. Я там довольно много провел времени. Познакомился с летчиком, расстрелявшим с самолета целое колхозное стадо. Он очень веселился, вспоминая как они кусками взлетали вверх, — такой фонтан из коров. Был молодец, который застрелился на посту.
Я его спрашиваю:
— Как же ты в сердце не попал?
— Да портсигар помешал, ствол соскользнул. Портсигар был в шинели, и ствол увел вверх.
Он был такой здоровый, что сам дошел до медчасти. Такие лбы в 1905 году были на Цусиме — типа матроса Наливайко[93]. И к этому «Наливайко» приходила такая же баба — как ватная баба на чайнике. Замечательная была парочка.
Был еврей-марксист из Шахт или Донецка — активный пропагандист марксизма, атеист, очень цыганисто-еврейского вида, напоминавший молодых еврейских рабочих 1917 года, ушедших в революцию. Он говорил, что все национальные признаки типа папах и черкесок — проявление чудовищной архаичной отсталости. Надо учиться у Владимира Ильича — вот он одевался нейтрально: картуз, чтобы быть вместе с рабочими, и галстук, чтобы быть вместе с интеллигенцией. Картуз с галстуком — самая нейтральная прекрасная одежда, которая освобождает человека от всяких общностей, кроме общности труда. Он рисовал мне схемы шахт и как все это дело работает: забой, как рельсы прокладываются, как поднимается уголь. Много чего мне объяснил про добычу угля — забавный парень.
Сидел с нами азербайджанец, не говоривший по-русски ни одного слова. Он не знал, что русский язык существует, пока не попал в армию. Азербайджанец из Армении, из горного азербайджанского села: в те годы азербайджанцев оттуда еще не выперли. Армения — это ведь наш азербайджанский край, Эриванское ханство, и эти ребята не знали, что есть какая-то Армения. Про Россию тем более не знали ничего. Он учился в азербайджанской школе, и теперь не понимал ни звука, что говорят вокруг. Он был счастлив, когда меня встретил, потому что я ему объяснил, что вокруг происходит. У меня с собой была книжка по азербайджанскому фольклору, и он просто плакал от счастья. Он на моей книжке написал посвящение мне: у него своей книжки не было, так он на моей написал. Где-то она у меня хранится.
Марксист все время хотел провести пропаганду по атеизации и социализации азербайджанца. Но им не было на чем говорить: не было общего языка. Я объяснил азербайджанцу, что он имеет дело просто с шайтаном. А парень был верующий, молящийся. Я ему говорю:
— Видишь, это — шайтан. Он хочет, чтобы ты не верил в Аллаха, хочет, чтобы верил в шайтана.
Он очень серьезно ко всему отнесся. Марксист понял, что я его троллю в сознании этого азербайджанца, и обиделся на меня. Но это было некоторым развлечением, тем не менее. Был там очень суровый ветеран-психиатр — приходил на работу в форме, сапогах, с пистолетом в кобуре, и сверху белый халат. Через некоторое время он мне говорит:
— Мне понятно, что ты симулянт, но я не могу принять по тебе решение в одиночку. Есть предложение направить тебя на беседу к главному психиатру Московского военного округа.
Думаю, ну ничего себе, до чего я дошел. В двух местах признали симулянтом и еще отправляют для последней беседы к главному психиатру. Ну ладно.
Повезли к главному психиатру, там у него адъютант сидит в кабинете. Сам главный психиатр — седой мудрый дядька. Меня вводят…
— Не хочешь служить?
— Не хочу.
— А что будешь делать, если отпустим?
— Учиться, книжки читать, заниматься самообразованием. Попробую поступить куда-нибудь.
— Ну хорошо, иди.
Через несколько дней вышла моя комиссация, и отправился я по второму разу в свою часть. Надо же было получить документы и оттуда уже ехать домой с сопровождающим.
А сопровождающим у меня был Евгений Барас, с которым я призывался из Москвы и которого спасал от массового и могучего антисемитизма. Я же в части пользовался большим авторитетом. Его хотели несколько раз побить, но я не дал, сказал — не надо.