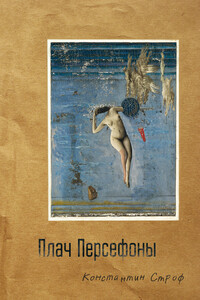В Коране Всевышний присутствует как слово Божие, как Логос, физически воплощенный среди нас. Это и есть «кусок Бога» здесь. Нам открыто его «Я».
А то, что осталось там, в ночи, — это сама ночь, это Он, отсутствующее третье лицо. Поэтому мусульманам в этом отношении проще.
Все люди находятся под давлением финализма, и они ходят вокруг этой проблемы, палочкой трогают, иголочкой. Получают какие-то электрические разряды.
Много лет назад, размышляя о себе, я думал, что культура — это когда на полке стоит Альберт Швейцер, «Майн Кампф», «Так говорил Заратустра», «Бесы», какая-нибудь «Наука логики». Они все стоят на одной полке. Там стоят как книжки о любви к человечеству, так и книжки, которые были запрещены как пощечина человечеству. Лотреамон и сказки братьев Гримм — все это культура.
И эта полка — это конечно ужас, потому что одно перечеркивает другое.
Ницше писал: «Заратустра не учитель их»[263], — а его берут и ставят на полку рядом с Альбертом Швейцером, с которым бы он и «на одном гектаре не сел».
И я думал, в чем же для меня планка, которую должен взять, и я думал наивно, что нужно написать такую книгу, которую никогда не поставят на полку, — по крайней мере рядом с Альбертом Швейцером. А лучше вообще никогда не поставят на полку.
Я понимаю, что это невозможно, потому что культуру только пистолетом можно победить. Известный деятель III Рейха постоянно хватался за пистолет, когда слышал слово «культура». Когда мы думаем о культуре как о гробе, в котором похоронены, как в общей могиле, души всех страждущих, то мы понимаем, почему он хватался за пистолет. И мы разделяем его возмущение.
Любая культура есть хождение вокруг да около подлинного — того, с чем культура не может справиться, вступить в реальный контакт, — поэтому она и превращает это в культуру. Культура есть уже форма отчуждения, упразднение реального, уникального и превращения всего в книжку с картинками.
Культура, или субкультура каких-нибудь «готов», не решает вопрос Ивана Ильича. Как только человек добивается эстетически или каким-то ходом, что смерть исключена, упоминание о ней исключено каким-то жестом, хохотком, анекдотцем, куском селедочки с рюмкой водки, — и тут же он пошляк, и пошлость торжествует.
Что «смерти нет» — это чистая пошлость.
Пошлость в своей сути — исключение идеи смерти из экзистенциального присутствия.
Добрые дела и пахота на ниве гуманитарного возделывания ничего не меняют. Это всё форма эскапизма, форма самообмана.
Человек, к которому подступает смерть, должен это встречать и бороться с этим наедине, — вот как Кася [264], например. А когда он это выносит в коллектив, в субкультуру, — это форма эскапизма. Большинство двенадцатилетних отличается от такого образа. И в мое время двенадцатилетние не ходили в черном и не думали о смерти. В некоем мыслимом черном ходил я. С небольшими серебряными молниями. А больше я никого не знал.
Череп на письменном столе — форма эскапизма, форма самообмана, попытка приручить смерть, но не внутренним образом мыслить смерть, а экстравертным образом, внешним образом, сделав ее предметом эстетики, любования.
Уверяю вас, когда реальная смерть начнет последовательно охватывать своим холодом члены этого человека, и он как бы внезапно ощутит разверстую, притягательную бездну могилы, то он поймет, что зря он терял время, играясь в черепа, — это ему не помогает. Как Станислав с мечами. Что Станислав, что череп на письменном столе — не помогают. Все отменяется. И все эти игры говорят о том, что рубеж минимального человеческого понимания не перейден.
Когда над Достоевским ломали шпагу, он сам сломался.
Он зверски полюбил жизнь. Он же написал про клейкие листочки, и высказал свою позицию словами Ивана. Иван — его альтер-эго. Не Митя же, и не Алеша тем более. Он — Иван, и он рассказывает свой опыт из-под расстрела с завязанными глазами, когда он от имени Ивана пишет, что хотелось бы целую вечность стоять в ночи на одном квадратном метре, прикованным к скале как Прометей. Лишь бы жить. Пусть вокруг будет кромешная ночь, но только бы жить и никогда не умирать.