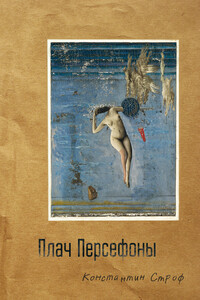Мною такое желание снято и трансформировано в другое — в мысль о смерти, которая вбирает в себя абсолютную жажду жизни. Абсолютная жажда жизни без этой «соли», без мысли о смерти, настоящее «мышление смерти» не получится, как суп без соли.
Жизнелюбы-бытийщики, лехаим — абсолютно противоположный мне полюс.
Я прошел через ненависть к смерти как некое внешнее отрицание меня, которое потом преобразовалось в понимание смерти как истинную сущность меня.
Жажда бессмертия и ненависть к смерти — два маленьких писка, которые сняты и трансформированы в суть молчания, в тайну молчания…
Для меня актуальной темой, темой моей биографии и — хотя это вопрос политики и истории — моей философии является моё отношение к советскому феномену. Советский Союз был для меня абсолютно неприемлемой реальностью — сам советский дух.
Я впервые пришел к ощущению, что всё это ненавижу, в очень раннем детстве. Это было связано с тем, что я пережил советское как женское.
Хрущевское время, мне девять лет, 1956 год. По радио говорили «мир», проклятье войне», «мирное сосуществование»… Вдруг я понял, что именно здесь концентрируется моя ненависть. Я, маленький мальчик, по глубочайшему интуитивному выбору пришел к тому, что насилие — это духовно, а жажда мира — это подлая специфика раба.
Рабское состояние эксплицитно отражено в женщине, женщина — враг мужчины. Наиболее проявленное в мужчине состояние женственности — это состояние раба. Мужчина как раб — это мужчина, который повержен, принужден, кастрирован. Дискурс, который вела советская пропаганда, я воспринимал именно как «кастрационный» дискурс, женский дискурс. Для меня это сразу четко оформилось.
Я выбрал в качестве своего поводыря на тот момент Гераклита — за то что он сказал: «Вражда — отец вещей»[265]. Эта фраза стала фундаментальным слоганом, которым я руководствовался. Она привела меня, неопытного еще мальчика, к социал-дарвинизму, к поверхностному ницшеанству.
Между 9 и 12 годами я исповедовал культ насилия, жестокости, войны, господства, ненависти к человеческим поискам комфорта и женскому культу безопасности. Все качества, которые мною философски отторгались, воплотились для меня в феномене советской реальности, — реальности рабской, женственной.
Я ведь поначалу принимал дискурс о мирном сосуществовании как аутентичный: то есть действительно верил, что они все там у себя искренне борются за мир. Как в одной песне Головина есть строчка — «обожал он сражаться за мир». Сегодня, правда, принято считать, что это была пропаганда, «разводка» агрессивной советской империей западного человечества.
Но я и по сей день полагаю, что мирное существование — реальная подоплека и психологии, и гештальта кремлевских старцев. Хрущев, Маленков и другие реально были «заточены» на конвергенцию, мирное существование, на всяческий позитив, на хозяйственность. Стоит вспомнить лысого Никиту Сергеевича в вышиванке с кукурузой в руках, как всё об этом человеке становится понятно. Больше всего на свете эти люди боялись реальной конфронтации, реального взятия на излом с их ситуацией, и хотели бы продолжать вот такое свое существование.
Как говорит Гегель, господин и раб отличаются тем, что господин идет навстречу смерти, а раб хочет от нее убежать.
Советский Союз страшно не любил тему финала и злился, когда Мао говорил, что ядерная война, ядерная бомба — бумажный тигр, а половина человечества — нормальная плата за коммунистическое будущее. Позднее, при Рейгане, полагали, что «есть вещи поважнее, чем мир», и это в Совке вызывало истерику.
Советские были рабами и кончили коллапсом, как рабы, вставанием на те колени, с которых они непрерывно до сих пор встают, скользят и падают на лёд, как гуси.
Советский Союз был для меня предметом абсолютного отрицания. Но он кончился в 1991 году, а с 1989 по 1993 год у меня был период переосмысления и оценки. Раньше я не хотел разбираться в том, что в Советском Союзе есть какие-то этапы, аспекты, история, подистория. Что есть троцкизм, который ставил перед собой совершенно другие задачи. Что между Хрущевым с кукурузой и пламенным Львом Давыдовичем лежит пропасть. Я не хотел в это вникать. Отрицал полностью, хотя изучал марксизм, марксистскую диалектику, читал «Капитал» с седьмого класса. Первый том «Капитала» я прочёл в 14 лет с карандашом в руках. Не только прочел, но и понял — по крайней мере большую его часть.