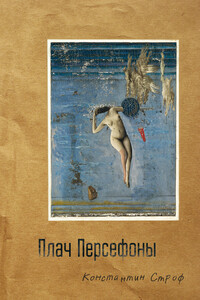Мама рассказывала, что иногда поздно ночью, среди смеха и веселья, когда они кружились в бальных танцах в большой зале, в особняке (по-моему, это особняк по Остоженке, 49[32] — там жил либо Людвигов, либо Кабулов) внезапно появлялся хозяин дома. Всегда необычайно бледный, белый как мел. И говорил он с вежливой улыбкой, медленно пробираясь среди танцующих молодых людей: «Веселитесь, веселитесь. Не обращайте на меня внимание», и следовал к себе в кабинет. Но на него и так никто особо не обращал внимания, хотя то, что он всегда был белый, как мел, появляясь посреди ночи, мама запомнила.
Много времени спустя она стала сопоставлять разные моменты и предполагать, с какой такой работы он мог появляться во втором часу ночи и в таком вот странном бледном состоянии.
На одной из таких вечеринок она и встретилась с моим отцом.
Как огонь и вода — при их встрече с шипением поднялся странный пар. Вода тут же куда-то впиталась, а оставшийся огонёк снова раздулся, и поднялось новое пламя, но уже иное. Они были несовместимы. Но они встретились: мой отец, голубоглазый бравый элегантный денди с черными вьющимися волосами, и мать — темная шатенка с серыми и очень холодными глазами. Они понравились друг другу и решили пожениться.
Деды были против — и тот и другой. Один дед — верховный судья в Баку, а другой — зампредседателя Комитета по делам искусств, директор Малого театра и преподаватель философии в ГИТИСе. Один из Мусавата — «перекрасился» за счет личной дружбы с Багировым. Второй — прямой участник Гражданской войны, ушел на фронт в семнадцать лет воевать с Деникиным, застал формирование первых полков Красной армии, там познакомился с будущими большими людьми.
Деды мои были совершенно из разных пространств, психологически разных. И мои отец и мать тоже оказались совершенно противоположными. Говорить им было не о чем.
Мама, своевольная, привыкшая к независимости, бросила среднюю школу и ушла из девятого класса на ипподром, и дальше училась в вечерней школе. Ей надоело учиться, а лошади были ее страстью. Она могла сделать любую карьеру — театр, университет, МИД, все что угодно.
Было что-то неуловимое в её серых глазах, высоких скулах. Внутренняя жесткость, наверное. Моя мать была жесткой женщиной, хотя жесткость и скрывалась под светскостью, беззаботным смехом, стильностью и манерами. Но очень жесткая была женщина.
Она к людям относилась хуже, чем к животным. Лошади составляли объект ее абсолютной страсти. Она кое-как получила аттестат, для нее остававшийся чем-то внешним и ненужным.
Я с матерью не жил. Очень скоро после того, как она развелась с моим отцом, она вышла замуж за морского офицера-подводника и уехала в Питер. Конечно, я бывал в Питере у матери — в Поварском переулке на Невском, где она жила очень неприятной для себя жизнью, потому что в Питере нет ипподрома. Видимо, по этой причине мать потом и развелась. На некоторое время этот брак продлился, потому что они года два жили в Таллинне. Бывал я и в Таллинне. Но ни Питер, ни Таллинн не запомнились мне никак. Я много посвятил Таллинну уже в зрелые годы, в 80-е, — тогда он мне уже очень нравился. Но в 12 лет совершенно ничего не осталось.
В Талинне ипподром был. Это чуть-чуть притормозило распад семьи. Но они вернулись опять в Питер, и тут уже она не выдержала.
Не понимаю, почему не было ипподрома в таком замечательном городе, как Питер, где когда-то жизнь протекала между парадами, манежем и выездами. В городе, где Зимний дворец, где обитала аристократия, где все завязано на лошадь — традиционную имперскую вещь — не было ипподрома. Оказывается, такой факт мог повлиять на семью, её судьбу.
Лет до 14 я и сам занимался верховой ездой в обществе «Труд», бывший «Пищевик». У моей матери, отца и у меня, с разрывом в 13–14 лет, был общий тренер — Александр Таманов[33], в мое время уже старик. Сухой красивый армянин старого закала. Он носил бриджи и великолепные сапоги с подкладкой. Офицерские сапоги белогвардейского фасона, вокруг которых он застегивал насапожники — специальные чехлы, чтобы хром сапог не страдал от конского пота. У меня были обычные яловые сапоги, купленные в военторге.