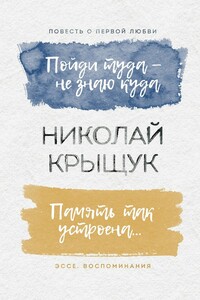И вот когда я этих кузнецов посадил в коробку, а потом увидел, как один из них сожрал другого, а потом и сам почернел от гангрены, у меня сердце сжалось, потому что я как бы вышел на некий иероглиф тщеты.
Тщета как ужас. Вы представьте себе: я же посадил их в зиндан, черный беспросветный зиндан, и один из них жрал другого. В принципе они были для меня как люди, которых я кинул в зиндан, и один из них убил другого и ел уже полусгнившего.
Для меня это стало большим сигналом. Многие вещи связались.
Я, например, очень любил ходить по мазарам. Я же был связан с Эшони Халифа, с тарикатом. Тарикаты стояли тогда за ИПВ, за оппозицию, — в отличие от Северного Кавказа.
Я любил ходить по мазарам, потому что искал реальной встречи со смертью. Мазар был для меня черной дырой, — человек, который там лежал, сконцентрировал свою смерть до такого сгущения, до такого ядра, что это стало некой точкой притяжения, неким смыслом. «Он» как отсутствие. И я пытался всё время войти с этим в контакт.
И вдруг, пока я плясал и прыгал с этими деревянными шашечками и сабельками, — как будто дядька подошел ко мне сзади, пока я скакал по песочнице, и страшным ударом биты выбил у меня сабельку, а потом дал мне такой подзатыльник, что у меня вылетела половина зубов.
Эти кузнечики меня встряхнули, и очень многие вещи соединились.
Много в Таджкистане было всего, прежде чем начался реальный процесс и меня «взяли на рыбалку».
Сначала же создалась Исламская партия возрождения, и ещё никто не пикал на счёт отдельной таджикской партии. Мы были Всесоюзной партией. В ней было 130 тысяч человек. Самое смешное то, что из этих 130 тысяч 100 тысяч — в Таджикистане, а 30 тыс. — на весь остальной Союз. Мы провели учредительный съезд в 1991 году в Астрахани. Я вошёл в Центральный совет.
А тут распад Союза.
Я, кстати, был приглашён Горбачёвым на третье сентября в Верховный Совет СССР после его освобождения из Фороса. Я был «гостевым депутатом», сидел в первом ряду, а передо мной сидели все двенадцать президентов.
Давлат тоже туда приехал. Мы с ним столкнулись в кулуарах.
Он мне говорит:
— Ну всё. Наше дело в шляпе, в чалме. Мы уже обо всем договорились. В Таджикистане мы берем власть, нам её отдают. И на всех парах несёмся в светлое будущее. Только мы должны взять с собой «на рыбалку» Демократическую партию Таджикистана.
Я же был очень искренний человек и думал, что вот, это — братья.
Я им говорю:
— Вы что?! Какая ещё Демократическую партию Таджикистана?! Кто это такие? Это же исмаилиты!
— Ну а какие тебе ещё тут могут быть демократы? Только такие, только исмаилиты.
— Вы что! Их пятьсот человек в лучшем случае, а нас 100 тысяч членов партии. Как это их «брать на рыбалку», когда они вообще никто, звать никак, но при этом являются агентурой и пятой колонной Запада.
А таджики из ИПВ, между прочим, воспринимали всё под углом проигравшего ГКЧП и победившего «нового мышления». Они даже «белым домом» называли жёлтый дом правительства в Душанбе.
И говорили:
— Пойдём делать ГКЧП.
Они под «делать ГКЧП» имели ввиду свержение коммунистов. Где-то они в этом смысле попадали в десятку.
— Мне сказали, что вопрос уже решён. Нам сказали: вы получите власть и суверенитет в свой большой исламский карман при условии, что в другой карман вы сажаете демократов.
Ну а что я мог сделать? Убить Давлата? Он встречался с Ельциным. И мне он донёс уже постфактум.
Прошло 3 сентября, и я поскакал с дикой скоростью к Ахмад-Кади Ахтаеву. Он уже приехал и остановился у меня на Болотниковской. Приехал и Абдулло Нури.
Мы приходим с Ахмад-Кади к Абдулло Нури, он сидит на кровати, поджав ноги.
Нехорошо вспоминать о мёртвых непочтительно, но терпеть не могу стиль мусульманских мужиков, которые встречают тебя дома в кальсонах, белых рубашках, с огромными черными бородами. А кальсоны с пуговками, это вообще какой-то ужас. Я как-то Гюлю к Давлату Усмону послал за какими-то документами, и она приезжает домой в шоке и говорит:
— Он встретил меня в кальсонах!
Говорю:
— Ну это обычное дело.
Ахтаев с Нури начали разговор.
Они говорили между собой по-арабски, потому что Абдулло Нури, как все образованные мусульмане, всю жизнь прожил в Совке, но по-русски говорил очень плохо. Он говорил по-таджикски и по-арабски, а по-английски и по-русски примерно одинаково плохо.