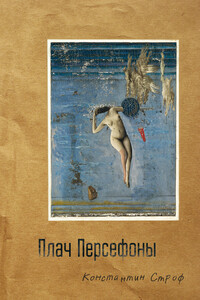Ей пришлось тяжело. В 30-е годы у нее был любимый муж Феликс. Он был НКВДшник. Как-то они возвращались из ресторана большой компанией, и он, приотстав, шутя и играя, достал из кармана пистолет и со словами «а спорим, что не заряжен», выстрелил себе в голову на глазах у всех.
Это случилось, насколько я понимаю, когда Ягоду разбирали на части. Красиво поступил. Объявил перед свидетелями, что это не самоубийство, а что он просто валяет дурака: ну идиот, ну патрон оказался в патроннике, ну не повезло. Понятно, что если бы он застрелился, то — «враг народа». И соответствующее заключение приняли бы и по жене. А так — ну дурак, с кем не бывает.
Этот случай подействовал на тетю так, что она уже никогда не смогла оправиться. Вышла потом замуж за инвалида войны намного ниже себя по уровню. А сын от брака с Феликсом погиб на фронте.
Меня дед обожал. Легко брал и сажал себе на шею. А если был не в духе, то пальцем отводил меня в сторону. Я к нему подбегаю, кричу «Дедушка!», а он меня пальцем отводит, говоря при этом «Я зол», — и идёт в свой кабинет. Когда я Джаиду[24] это рассказал, он отметил, что это типично тюркский ход, даже сам оборот «Я зол». Впрочем, внешность деда не оставляет в этом никаких сомнений.
Он был компактный, плотный, коренастый, — ростом, наверное, сантиметров 175, — с густыми черными волосами и черными же, почти сросшимися, очень густыми бровями, красным лицом и очень темными карими глазами. В волосах у него не было ни единого седого волоса — во всяком случае так мне казалось, — и твердый подбородок калошей. Странным образом он напоминал известный бюст Бетховена. У нас на рояле стоял этот бюст, и домработница была уверена, что это портрет моего деда. Я и сам, когда был маленький, так думал: они действительно были похожи. Но потом я прочел имя латинскими буквами: Beethoven. Я говорю домработнице:
— Смотри, Маша, это Бетховен!
А она отвечает:
— Да ну вас, вечно вы придумываете! Это ваш дедушка!
Действительно был похож: волнистые черные волосы, подбородок, брови сведенные.
Отец мой считал, что дед больше напоминает злую версию Минтимера Шаймиева. Но я не согласен, потому что Шаймиев похож скорее на орангутанга, а у деда другой тип лица. Просто мой отец деда не любил и заклеймил его Шаймиевым.
Некоторый свет на историю моего деда проливает происхождение нашей дачи.
Став в 1944 году директором Малого театра, дед вступил в дачный кооператив. И обнаружил, что председатель в этом дачном кооперативе не имеет никакого отношения к Малому театру. Некий ловкий менеджер, проходимец, — ниоткуда пришел, все организовал, начал рулить, стал председателем. И все спокойно кивали, и вопрос «Кто такой?» никто не задавал.
Дед посмотрел на ситуацию как директор Малого театра и недолго думая взял да и посадил председателя. А у того уже был огромный участок от одной улицы до другой. Одна улица выходила на кооператив МХАТа, он назывался «Чайка», а другая выходила в лес. Председатель с 1938 года заложил фундамент и сруб будущей дачи. Дед забрал все себе и сам стал председателем.
Году в 1946 из какой-то Жмеринки или Конотопа приезжает сестра посаженного председателя и начинает качать права: «Где мой брат? Где его дача?» Она тоже исчезает в темных недрах ГУЛАГа…
Это я все читал в документах, хранившихся у нас на чердаке.
Меня это поразило в свое время, потому что всегда считал, что дача — моя феодальная первозданная собственность. Родовая. Я не мог себе представить, что у нее была какая-то предыстория, относившаяся не к моей семье.
Надо сказать, когда я познакомился с реальной историей дачи, — что в основе был некто, кого взяли за шкирку и посадили, и это был отъем собственности, — меня царапнуло. Не в том смысле, что жаль бывшего председателя, а в том, что миф первозданной родовой собственности испорчен. Но, с другой стороны, сама история помогла мне лучше понять деда: по своей натуре брутальный баскак из тех, кого до сих пор с ужасом вспоминают.
Ордынский баскак. Брал, отбирал, сажал, присваивал.
Сегодня рейдеры не воспринимаются как «право имеющие». А мой дед действовал как «право имеющий».