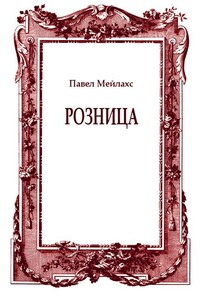Мне запомнилось это потому, что я, работая там, читал «Утро Магов» Павеля, и в этот момент армяне взорвали метро: по радио передали о взрыве. 1977 год[190]. Затикяна, кстати, лично знал Арам Карапетян, встречавшийся со мной спустя тридцать лет.
1978 год для меня стал годом сурового кризиса.
Мне исполнился 31 год. Поиски и пути, которые меня поддерживали в моей внутренней работе, исчерпались.
Тогда я ещё не был практикующим мусульманином, которым стал после того, как поехал в Таджикистан и там уже сошёлся с носителями ислама. Но я всегда был мусульманином, всегда считал себя мусульманином, всегда внутренне был укоренен в исламе, но по образу жизни принадлежал к правой богеме, что выражалось в неких эксцессах, которые сопровождали мою повседневную жизнь.
Внешне я вёл достаточно богемный образ жизни, но к 1978 году я понял, что все «угольные пласты», все «месторождения» я уже выработал, и за этим брезжила совершенно новая конструкция, новый визион.
Но я ещё был разъединен с этим смыслом в непосредственной экзистенции. Меня не оставляло чувство, что теряю время. У меня возникала явная лакуна, явный перепад в самоощущении. Я всё время размышлял — умственная работа никогда у меня не прекращалась.
Но на внешнем плане я понял, что я буксую.
Моё тело, моё присутствие были на одной стороне, а некоторое интеллектуальное видение — на другой. Я приближался к новому видению, и его абрис проступал сквозь туман.
Подобным образом мы видим причальные конструкции, какие-то краны и трубы, когда подплываем на барже к пристани ранним утром, но ты туда ещё не приплыл, не сошёл на эту землю. И эта земля вызывает у тебя надежду, а возможно, даже некоторый страх.
В этот период я вел сложный, тяжелый образ жизни с людьми, погруженными в достаточно бессмысленное существование. Впервые в моём физиологическом механизме произошел сбой, у меня неожиданно проявились признаки болезней, о которых я никогда не думал, что они могут иметь ко мне какое-то отношение. Вдруг я почувствовал себя физически очень уязвимым.
После этого сразу началась смена декораций…
Как я уже говорил, мы с Леной развелись, и в результате сложных многоходовок я оказался на Народной улице.
Дом, в котором я тогда жил, существует и поныне. Он сейчас покрылся штукатуркой и краской, а тогда был просто зеленовато-облезлый кирпичный дом в центре на набережной рядом с Таганкой, совершенно барачного типа. Пригламуренный барак.
Там жили очень любопытные люди.
Моими соседями оказались московские пролетарии — семья, состоявшая из толстого плотного мужика в годах, отца семейства, лет под 60, где-то неплохо по тем временам работавшего, квадратной красномордой его жены и их монстроидального сынка. Сын модно подворачивал джинсы почти до середины голени, не просыхал, тупо женился на «лимитчице», они тут же заделали ребёночка, которого назвали Денисом. Во дворе стояла их «Победа», никуда не ездившая. Отец с сыном её катали на руках по двору.
«Победа» была настоящей женой этого мужика. Он приходил с работы, быстро на кухне хлебал варево, приготовленное его кубышистой женой, надевал стоячий от мазута и масла комбинезон и шёл лежать под эту «Победу». Возвращался он во втором часу ночи. Каких-либо результатов лежание совершенно не давало, я только один раз видел, чтобы место, на котором эта «Победа» стояла, пустовало.
Как-то раз вечно пьяный сын попросил отца:
— Батя, давай продадим эту «Победу» и купим хоть какие-то нормальные «Жигули».
Отец его чуть ли не избил со словами:
— На этой «Победе» ещё в 1952 году мой начальник ездил, у которого я эту «Победу» купил. А ты смеешь говорить, чтобы я её продал.
Мне был любопытен конструкт этих сущностей — я бы не рискнул причислить их к человеческому уровню. Существа субчеловеческого уровня. Любопытные джинны болотного образца.
Соседи мне не мешали. Разве что большая и похожая на сарай ванная использовалась ими как склад запчастей для этой «Победы». В принципе, это тоже не мешало, потому что запчасти лежали не в самой ванной, а рядом.
Там я жил, и там происходило много интересного.
Я постелил ковёр, путешествовавший со мной ещё с Мансуровского. Этот ковёр я помню с раннего детства, он лежал у моего деда в кабинете. И когда дед меня туда пускал, я на нем играл. Ковёр спускался с 4-х метровой стены и далее раскатывался по полу, метров 8 в длину, метра 3 в ширину.