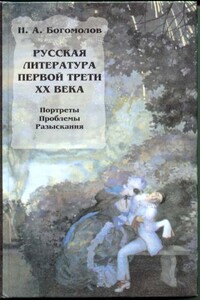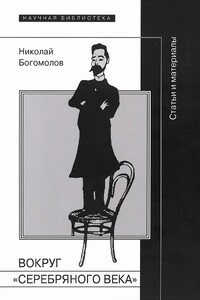Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 2. За пределами символизма - страница 262
Но автор биографии идет и дальше. Оказывается, Ахматова «не могла согласиться с тем заниженным образом Сталина, на котором настаивала антиода: пахан, уголовник, собравший в кремлевской ”малине” полулюдей, отбросы революции» (468). Аргументы? Стихи Пастернака и мнение Булгакова. А у нее самой – «Фигура восточного деспота (”падишаха”) увеличивается и увеличивается в масштабе. Ей становится тесно в библейских пространствах. Жмет в регалиях царя Ирода.
И через страницу: «Если бы Анна Ахматова в рассуждении Сталина была одного мнения с Мандельштамом, она наверняка не стала бы к месту и не к месту упоминать, что ее вывезли из блокадного Ленинграда по личному распоряжению вождя, а в ее письме ”глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу” <…> не было бы той доверительной интонации, которая, видимо, и подкупила генсека» (470).
Что тут можно сказать? Хорошо еще, что цикл «Слава миру» не рассматривается как стихи с «доверительной интонацией».
Пастернак и Булгаков тут ни при чем: Ахматова сама умела думать и давать оценки. «Падишах» взят из стихов, которые так и названы – «Подражание армянскому», то есть из стилизованных. Трехстишие из «Поэмы без героя» относится не к Сталину, а к судьбе всей России, прежде всего России растоптанных и униженных тем, кого Марченко так почтительно именует вождем. Что же касается общего отношения Ахматовой к палачу, то интересно было бы узнать мнение критика, кого именно в 1940 году Ахматова именует самозванцем:
Неужели Гришку Отрепьева? Почему-то кажется, что человека, засевшего в Кремле и окончательно уничтожившего народные права именно к тому времени, когда стихотворение было написано.
Ни единого настоящего аргумента у А. Марченко нет, и знающий поэзию Ахматовой человек ей не поверит. Но ведь книга-то написана в первую очередь не для знающих, а для тех, кто интересуется житейскими подробностями. Как раз они не в состоянии что-либо внятное противопоставить авторской позиции.
Еще пример. «Интермедия восьмая» открывается рассказом об Ахматовой в блокадном Ленинграде. Конечно, благоуханная легенда о героической сан-дружиннице или дежурной на входе в Фонтанный дом, – не более чем легенда. Но тон и интонация, с которыми ведется рассказ Аллы Марченко, невозможно определить каким-либо корректным образом. Послушайте сами: «Куда важнее, что все без исключения свидетели сходятся в одном: Ахматова запаниковала, причем настолько, что, после того как очередная бомба разорвалась поблизости от писательского дома, отказалась выходить из убежища даже после окончания воздушной тревоги» (519). «Берггольц <…> сообразила, что сильно преувеличила ее храбрость» (519). «До радиокомитета Ахматова добираться побоялась» (520). Одним словом, вот вам ваша геройская блокадница: боялась, боялась, боялась! Паниковала, паниковала, паниковала!
Думаю, что автор книги не хуже меня знает историю Владимира Луговского. Он, сильный человек, всем до войны демонстрировавший свою мужественность и причастность к армии и ее доблести, попав под бомбежку, пережил сильнейший нервный срыв, после которого уже никуда не выбирался из ташкентской эвакуации до наступления безопасных дней. И зная эту историю, можно было бы не обвинять в трусости и паникерстве пятидесятидвухлетнюю не очень здоровую женщину, которая и на мирных городских улицах чувствовала себя неуверенно! Напомним, кстати, и ахматовский афоризм, приведенный З.Б. Томашевской в книге, которую Марченко знает и на которую ссылается: «Храбрость – это отсутствие воображения».