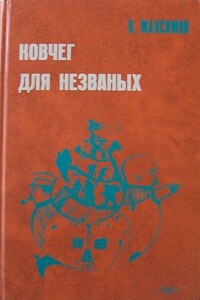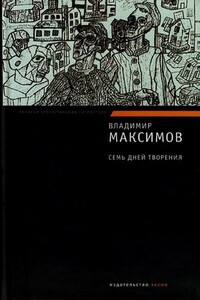Он и до этого много читал, а на Западе стал читать еще больше. Вся запрещенная в СССР литература сделалась доступной ему: книги по философии, истории, политике. Опыт и знания, приобретенные в эмиграции, дали ему свободу судить о событиях крупно, а иногда и провидчески. Он достиг уровня, с какого мог смотреть на мир в целом, не путаясь в мелочах и не завися от подробностей. Это важно отметить, потому что эмиграция третьей волны, к которой он принадлежал, по всем статьям уступала эмиграции первой и прежде всего в образованности, знании языков и внешней воспитанности. Первая эмиграция вывезла на Запад великую культуру, третья — свой великий гнев.
В «Прощании из ниоткуда» Максимов пишет, что на ненависти ничего не построишь, из ненависти ничего не вырастишь. Поливать древо жизни ненавистью, значит, поливать его ядом. Оно засохнет и никогда больше не даст плодов. Гулкий рефрен почти каждой главы этой исповедальной книги всегда один: «прощай и прости». «Прости меня, Господи», «да святится имя твое, женщина», «ты не забывай о нем, мой мальчик, не забывай и, если он жив, пошли ему свое благодарное «прости», «Господи, прости нас, маленьких и нечестивых, за нашу собственную обездоленность», «суди меня, моя земля». К кому обращены эти слова? К отцу, которого он предал, сказав, что у него нет отца. К женщине, которую он бросил. К батумскому вору Бандо. К врачу Абраму Рувимовичу, спасшему его в колонии и давшему денег на дорогу. К матери, к друзьям, к возлюбленным. «Кровавыми слезами» готов он оплатить каждый свой проступок, каждый глоток пьяного «вина греха».
На титульном листе первого тома собрания своих сочинений, изданного еще на Западе, Максимов написал мне: «Игорю Золотусскому от автора этот «плод любви несчастной» с давней душевной нежностью». Что спасло его в жизни? Думаю, эта любовь, эта нежность. «Любовь несчастная». Почему? И потому, что грамотешки не было (не окончил и семи классов), и оттого, что били его и в колониях, и в тюрьмах, что разорили семью, дом, двор, к которому пристыло его детское сердце, что измывались и позже, забирая в наручники не только руки, но и душу. Надо было не дать сломить себя ненависти («пепел Клааса стучит в мое сердце»), желанию мстить, расквитаться. Надо было подняться из-под обломков собственной жизни и из мальчика стать мужем, из бессемейного одиночки отцом семейства, из бывшего зека и шпаны — одной из самых заметных фигур интеллигенции конца века.
Все это он сделал сам и только сам.
Смотрю на второй номер «Континента» за 1975 год. Владимир Марамзин, Александр Галич, Роберт Конквест, Александр Солженицын, Абрам Терц, Грэм Грин, кардинал Миндсенти, Мария Розанова — вот имена авторов этого номера.
Выделяю из них два имени — Абрам Терц и Мария Розанова. Не вдаваясь в историю отношений Максимова с этими двумя замечательными людьми, скажу лишь о финале их дружбы-вражды. Сначала была дружба, потом вражда. Она длилась несколько лет, и незадолго до смерти Максимова завершилась примирением.
Господи, сколько эти счеты, подозрения, слабость наша и склонность верить слухам уносят наших сил! Сколько бы мы выиграли, если б не ссорились, не были бы падки на дурное мнение о других! Человек бывает подл и низок, и смирять в себе эту злую стихию есть высшее освобождение и высшее облегчение. А ведь когда я приезжал в Париж, то тайком от Максимова ездил к Синявским, а тайком от Синявских — к Максимову. Таня Максимова недавно попеняла мне за это. «И напрасно ты это делал, — сказала она. — Это ничего не изменило бы в ваших с Володей отношениях».
Что правда, то правда. Писатели обычно любят только тех критиков, которые их хвалят. Как-то один хороший прозаик сказал мне: ты не мой критик. Я спросил, почему. Он ответил: потому что ты обо мне не пишешь. Они обижаются на то, что критик о них не пишет. Ну а если, не дай Бог, покритикует, то нет более смертельного врага, чем обиженный талант. Максимову как редактору журнала приходилось не раз отказывать в печатании, и он лучше других понимал, что рвать из-за этого отношения, обижаться и дуться глупо. Помню, в 1993 году, когда я работал в «ЛГ», он принес мне главу из нового романа. Глава была слабая, и мы ее не опубликовали. Когда вскоре после этого мы встретились с ним в Париже, он покорно принес мне другую главу. И добавил: «Я и сам не знаю, что написал. Не понравится — скажи прямо». Эту главу постигла судьба ее предшественницы, но ни слова упрека я от Максимова не услышал.