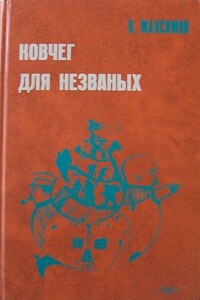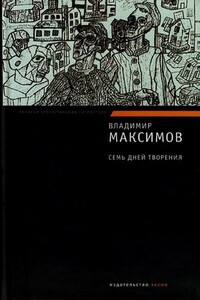В тот день, когда я впервые увидел Максимова, все в редакции находились под впечатлением хрущевской речи в Кремле. За большим «знаменским» окном отвесно падал крупный снег, снег таял на Володиной вытертой шапке, а в комнате, где располагались отделы критики и поэзии (С. Дмитриев, Л. Аннинский, Г. Корнилова), было тепло и уютно. На втором этаже (В. Кожевников, Б. Сучков, Л. Скорино) стояла мертвая тишина. Хозяева журнала гадали, кого выбросить из верстки, кого окончательно «зарезать», чтобы еще лучше угодить агитпропу ЦК, а здесь, внизу, царил смех — Максимов в лицах представлял Сталина и его присных. Он в то время коллекционировал анекдоты про Сталина и разыгрывал их с актерским азартом. Светлые его глаза тоже играли, из них излетали веселые молнии и, зорко фиксируя реакцию слушателей, он ничем не выдавал своих позывов к смеху. Его молодое лицо было подвижным, живым (это позже оно окаменело), меняющим свет и тени, как земля в ветреный и облачный день.
Вскоре я прочитал новую повесть Максимова «Жив человек» и написал о ней заметку для журнала «Юность». Благодарность Володи за эту короткую похвалу растянулась на много лет. Максимов вообще был человек благодарный и никогда не забывал о толике добра, которую ему сделал кто-то. Никогда я не слышал от него разговоров о Боге, о церкви, обязательных в среде новообращенных. Один из таких — нынешний преемник Максимова на посту главного редактора «Континента» — обычно начинает свои публичные выступления словами: «Я, как человек верующий, считаю…» Религиозность Максимова была выстраданной, а оттого скрытой. Да, он ходил в церковь, в его доме висели иконы, он крестил своих дочерей, но и мысли не мог допустить, что это ставит его над другими людьми. Гордыни в его вере не было.
Мое литературное почитание его имени началось с романа «Семь дней творения» (1971), а до того — с главы из этого романа, которая ходила по Москве под названием «Двор посреди неба». Ее читали как запретную литературу, как политический документ. Меж тем это была прекрасная проза уже зрелого и, если хотите, обретшего свой идеал Максимова. Симптоматично, что эпиграфом к своей первой повести «Мы обживаем землю» (1961) он взял слова Горького, к повести «Жив человек» (1962) — цитату из Толстого, а к следующей — «Стань за черту» (1962) — из Евангелия от Матфея. Эта эволюция цитат — эволюция самого Максимова. Начав с горьковских тем и горьковской интонации (и даже языка), он стремительно стал уходить от него в сторону классики. Он первый среди диссидентов, если не считать «Матренина двора» Солженицына, написал не антисоветский а истинно христианский роман, поняв, что отрицание не может исчерпать целей искусства. В этом смысле он обошел многих своих современников, для которых счеты с властью, насмешка над властью стали альфой и омегой их усилий. Его двор — то есть площадка, или пространство, на котором развертываются перипетии романа, — был двор посреди неба: и этим все сказано.
Как и другие писатели, уехавшие на Запад, Максимов лучшие свои вещи написал дома. Парадокс судьбы, до сих пор не разгаданный временем. И Максимов, и Аксенов, и Войнович, и Владимов, и Некрасов, и Солженицын — все должны быть зачислены в этот список. В чем тут дело? Земля питала или воля к сопротивлению, как искра, зажигала талант?
Правда, в отличие от других у Максимова на Западе родилось еще одно прекрасное дитя — «Континент». Когда в декабре 1996 года я побывал на последней его квартире в Париже на улице Шальгрэн, то увидел продолговатый обеденный стол, за которым собиралась редколлегия «Континента». За ним сиживали и Сахаров, и Эрнст Неизвестный, и Бродский. Максимов переехал на эту квартиру за десять дней до смерти. Его, собственно, перевезли сюда. А до этого он много лет обитал на улице Лористон, где на втором этаже было его жилье, а на четвертом — редакция журнала. Обе эти улицы находятся в районе Триумфальной арки и площади Этуаль, в которую со стороны центра упираются Елисейские Поля, а по другую начинается авеню Великой Армии. В этом городе русской эмиграции и торжества Наполеона (его имя и имена его маршалов раздарены улицам, мостам, площадям, станциям метро), который был повержен Россией, Максимов и основал свой журнал. Полный комплект «Континента» стоит сейчас у меня на полках. Это — подарок Володи. Вскоре после своего первого приезда в Россию он стал рассылать эти томики всем, кто мог бы их сохранить как память о нем. Максимов создал «Континент», но и «Континент» пересоздал Максимова. Из частного лица, литератора, может быть, не бросающегося в глаза в каком-нибудь московском ЦДЛ, он превратился в фигуру, которую знал весь мир. Он изменился и внешне. С фотографий, какие иногда просачивались через границу, смотрел новый Максимов — в тройке и галстуке, хорошо постриженный, посолидневший и даже обретший маску «деятеля» — всегда серьезного и знающего себе цену.