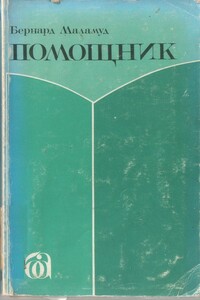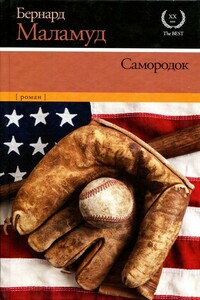И позже заснул над книгой и бутылкой сладковатого теплого пива, которое принесли в номер: прикидывался перед самим собой, что совершенно спокоен, хотя на самом деле меня будоражили мысли об отъезде, о перелете; три минуты спустя по часам я проснулся, и мне показалось, что меня — мало мне было старых — стали мучить новые кошмары. Я вообразил, что мне могли подбросить письмо, запаниковал и обыскал карманы двух моих костюмов. Ньет. Потом вспомнил один из снов: я сижу за столом, вдруг ящик стола мало-помалу отдвигается, и Феликс Левитанский, гном, делящий ящик с теплой компанией мышей, умудряется по расческе как по лестнице, взобраться на стенку ящика и оттуда перескочить на стол. Ухмыляясь, потрясая лилипутским кулачком, он верещит по-русски, но я понимаю его:
— Атомный бомбометатель! Погубитель невинных японцев! Позор американцам!
— Несправедливо, — завопил я. — В то время я еще учился в колледже.
Грустный сон, подумал я.
Дальше мысль моя повернулась так: что, если меня ждет судьба Левитанского? Что, если Америка почти помимо воли сдуру ввяжется в войну с Китаем, и, чтобы поскорее положить конец войне, мы, прежде чем китайцы опомнятся, разнесем их в пух и прах, бросив на них — как я ни буду протестовать, то есть размахивать руками и ругательски ругаться, — несколько десятков водородных бомб; двести миллионов азиатов погибнут, атомный супчик получится лучше не надо — моря крови, горы хрящей, костей, а поверху плавают китайские зенки. Советы так и не смогут решить, на кого направить ракеты в первую очередь, поэтому войну выиграем мы. И что, если после этой неслыханной бойни миллионов десять американцев, снедаемых отвращением к себе, вздумают бежать из своей страны и кинутся к границе? Чтобы избежать утечки капитала, навстречу беглецам двинут танки и вернут их восвояси. А Гарвитц затаится у себя в комнате, задернет шторы и вне себя от гнева настрочит эпическую поэму, где заклеймит Америку. Чья очередь дальше, какой нации — азиатской, не азиатской? В штатах его поэму никто опубликовать не захочет, потому что она может вызвать беспорядки и новый поток беженцев в Канаду или Мексику; ну а потом однажды к нему в дверь постучат, и постучит не ФБР, а обросший бородой Левитанский, советский турист, современный, а не заскорузлый коммунист. Он дружески предложит переправить тайком мою поэму в Советский Союз с тем, чтобы ее опубликовали там.
— Почему вдруг? — подозрительно спросит Гарвитц.
— А почему бы и нет? Пусть книга выйдет на свободу.
Я проснулся, спал я плохо. Согласно инструкции «Интуриста» мне надлежало в одиннадцать утра за два часа до отлета явиться в вестибюль с багажом. К шести я уже побрился и оделся, в семь позавтракал — я успел проголодаться — простоквашей, сосисками и яичницей в буфете двенадцатого этажа. И вышел искать такси. В эту пору поймать такси не так-то легко, но в конце концов я все-таки остановил такси у американского посольства, неподалеку от гостиницы. Перемежая — такой мой обычай — примитивный немецкий с элементарным французским, я уговорил шофера, для начала предложив, а потом и всучив ему два рубля, отвезти меня к Левитанскому и подождать у его дома минут десять. Взбежав опрометью по лестнице, я постучал в дверь, мне открыл Левитанский, в пижамных штанах, с закаменелым лицом, я извинился, что разбудил его так рано. Спросил, хотя в душе моей была смута, а в мыслях разброд, по-прежнему ли он хочет, чтобы я переправил его рассказы. Он захлопнул дверь перед моим носом — вот и старайся помочь людям.
Полчаса спустя — к этому времени я уже запаковал вещи и запирал чемодан — в дверь постучали, точнее не постучали, а поскреблись. За чемоданом пришли, решил я. На пороге — я на миг даже потерял дар речи — стоял шибздик, в толстой не по сезону кепке и длинном плаще. Он подмигнул, и я волей-неволей подмигнул ему. Это был шурин Левитанского Дмитрий, таксист. Он просочился в номер, расстегнул плащ и вынул упакованную рукопись. Приложил палец к губам, вручил мне пакет — я даже не успел сказать, что не хочу больше иметь к ним никакого касательства.