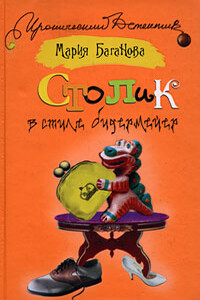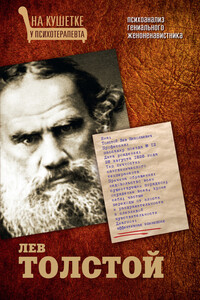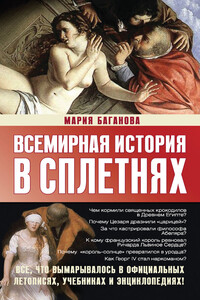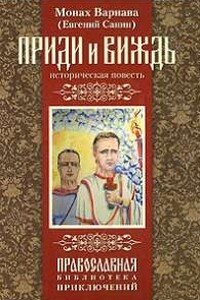– Бедняжка, – сказал он как-то, слегка пожав плечами, – свет осудит ее с наслаждением, а между тем она невиновна.
Обо всем этом он рассуждал спокойно, будто был здоров, как обычно: за исключением двух-трех часов первой ночи, когда страдания превышали пределы человеческих сил, он был поразительно сдержан.
К ночи вновь воротился Арендт. Его оставили с больным наедине.
– Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат, – услышал я, выходя из комнаты.
Умирая, Пушкин беспокоился не о себе, а о своем секунданте и товарище по Лицею.
Лейб-медик Арендт имел возможность просить о нем государя.
– Я присутствовал при тридцати сражениях, – часто повторял впоследствии доктор Арендт, – видел многих умирающих, но не встречал ни одного, обладавшего таким мужеством, как Пушкин.
Я ушел в комнаты Натальи Николаевны и застал с ней княгиню Вяземскую, чему был очень рад. Эта сильная духом женщина, много пережившая и потерявшая нескольких детей, как никто лучше, могла утешить молодую супругу несчастного поэта.
Я пощупал пульс Натальи Николаевны: он был заметно учащенный. Бледное лицо ее искажала судорога страдания. Всегда тщательно уложенные волосы растрепались. Я дал ей успокоительного и кратко ответил на вопросы о состоянии поэта, как он и просил, не давая больших надежд и не скрывая тяжести его состояния.
Когда я вновь вошел к больному, Пушкин спросил,
– Что делает жена?
– Она стала несколько поспокойнее, – доложил я.
– Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, – возразил он.
Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время.
Уезжая, доктор Арендт просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным.
Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие-либо распоряжения.
– Все жене и детям, – кратко ответил он и попросил позвать Данзаса.
Тот немедленно пришел, и они остались наедине. Насколько я могу знать, разговор пошел о долгах Пушкина. Я ранее видел эти бумаги, список кредиторов был обширен.
Около четвертого часу боль в животе начала усиливаться, и к пяти часам сделалась значительною. Я послал за Арендтом, он не замедлил приехать и назначил промывательное, вероятно, зря: боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась; взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только тяжко стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать.
– Зачем эти мучения, – сказал он, – без них я бы умер спокойно.
Арендт назначил опий и каломель, и наконец боль, по-видимому, стала утихать. Однако еще некоторое время лицо Пушкина выражало глубокое страдание, руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен.
– Жену, просите жену, – сказал Пушкин.
Я отправился за Натальей Николаевной. Оказалось, что она слышала тяжелые стоны и теперь ожидала меня с ужасом. Молодая женщина тут же поспешила в кабинет и с воплем горести бросилась к страдальцу. Она упала на колени перед его ложем, целовала ему руки… Ее роскошные темные кудри пышной волной рассыпались по плечам…
Это зрелище у всех извлекло слезы.
– Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона. – напутствовал он Наталью Николаевну. Она отвечала ему горестным рыданием.
Эта слабая женщина никак не могла утешить своего мужа при его кончине. Несчастную непременно надобно было отвлечь от одра умирающего, и я чуть ли не силой увел ее из комнаты. И вовремя: с ней случился ужасный приступ неимоверной силы судорог.
– Я была ему верна! – твердила госпожа Пушкина в промежутках между спазмами. – Что бы обо мне не болтали, я была ему верна!
Я многократно заверил пациентку. что в ее верности супругу никто не сомневается, и сам Александр Сергеевич много раз повторил.
– Вы ни в чем не виноваты! – повторял я.