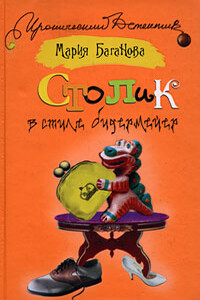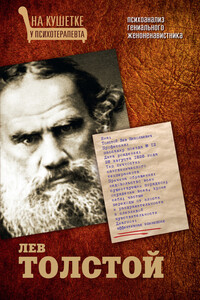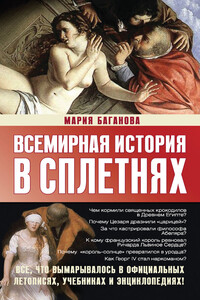– Я не могу терпеть, чтобы Натали имела какие бы то ни было сношения с этим проходимцем. Я не могу позволить, чтобы этот мерзавец смел разговаривать с моей женой и отпускать ей казарменные каламбуры, разыгрывая преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец.
Я видел, что он дрожит всем телом и почти не владеет собой. Я всерьез опасался за его рассудок.
Душевное состояние Пушкина ухудшилось еще более, когда он сам и некоторые из его знакомых получили письмо на французском языке следующего содержания. «NN, канцлер ордена Рогоносцев, убедясь, что Пушкин приобрел несомнительные права на этот орден, жалует его командором онаго».
Анонимные письма посылать было очень удобно: в это время только что учреждена была городская почта. Легко представить действие сего гнусного письма на Пушкина, терзаемого уже сомнениями, весьма щекотливого во всем, что касается до чести, и имеющего столь пламенные чувства, душу и воображение. Его ревность усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование; но он не знал, на кого излить оное, кто бесчестил его сими письмами.
– Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, гнуснейшего пасквиля, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. Это мерзость против жены моей, – негодовал он. – Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата, – поспешно рассказывал мне Пушкин. – Я занялся розысками. Письмо это было сфабриковано с такой неосторожностью, что с первого взгляда я напал на следы автора.
– И кто же это, по вашему, мог быть? – спросил я.
– Мерзейший содомит барон Геккерн! – выкрикнул Пушкин. – Я прямо написал ему об этом и вызвал на дуэль его так называемого сына. Пистолеты, черт, дороги!
– Ах, батюшка мой, опять дуэль! – расстроился я. – Смертоубийство… Гадость…
В ответ Пушкин показал мне массивную трость с серебряным набалдашником. Он легко поднял ее в вытянутой руке и некоторое время держал навесу.
– Моя рука должна быть сильной, чтобы не дать промаха при выстреле, – объяснил он.
– И вы готовы убить? Помните, что вы сами писали о гении и злодействе!
– Злодейство – спустить подлецу! – почти выкрикнул он.
– И когда же будет эта ваша распроклятая дуэль? – смиренно спросил его я.
Пушкин отбросил трость, словно мой вопрос был для него болезненным. Она упала, произведя довольно сильный грохот.
– Этот пройдоха самым откровенным образом струсил! – рассмеялся он. Смех его звучал зло и отрывисто. – Он принялся умолять меня об отсрочке, интриговал, пытаясь меня отговорить. Обращался к моим друзьям… До того унизился, что как-то на балу довелось мне обронить какую-то безделицу, так этот подлец ее поднял и протянул мне, надеясь хоть таким образом завоевать мое расположение.
– И что же вы?
– Не стал брать! Вырвал из его руки и специально уже бросил на пол! – объявил Пушкин, явно гордясь собой.
– Александр Сергеевич, – остановил его я, – но вы же сами себе противоречите. Не могу сказать, что я вовсе не слыхивал об этом пасквиле, но почему вы обвиняете в его составлении господина Геккерна? Коли он голландский посланник, то дураком уж быть точно не может. Зачем же ему было давать вам такой веский повод для вызова на дуэль, а ваша горячность хорошо известна, а потом, как вы выражаетесь, интриговать, пытаясь отговорить вас от этой дуэли?
Пушкин побледнел.
– А кто же это мог быть? – растерянно спросил он. – Кто?
– Ну откуда же мне знать, милостивый государь! – воскликнул я. – Сами вы утверждали не раз, что люди злы и завистливы, что привыкли вы думать о них самое плохое.
Взревновать к вашему таланту и семейному счастью мог любой.
– Все равно выходка непростительна! – гневливо возразил Пушкин. – Поведение моей жены было безупречно, а поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею господина Дантеса, то и отвечать придется ему. Я, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно, и оскорблять себя я не позволю!